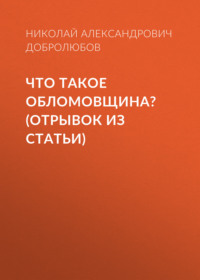Черты для характеристики русского простонародья
и все подобные прелести, о которых так звучно умеет петь господин Хомяков{14}. Нет, без всяких тонких соображений о племенных различиях, мы просто смотрим на предшествующие события и на результат их – современное положение народа. Всякому ясно, что человек совсем голодный с большим аппетитом будет есть свой обед, нежели тот, кто перед обедом успел позавтракать, тот, у кого вовсе нет никаких средств к жизни, будет их отыскивать энергичнее и упорнее, нежели тот, у кого есть хоть плохая возможность прожить кое-как. Из всех европейских народов самый консервативный, самый преданный установившимся законам и преданиям, конечно, англичане; и это как нельзя более понятно. Они имели время внутреннего брожения, время, когда они должны были дорогою ценою покупать себе самые ничтожные права; но, купивши их, они успокоились, если не вполне удовлетворенные, то по крайней мере обеспеченные в самых первых необходимых своих требованиях. При этой обеспеченности дальнейшие стремления сами собою получают характер спокойный, умеренный, чуждый всякой порывистости и лихорадочности. Человек, запасшийся зонтиком, хотя и чувствует неприятность под дождем, но все-таки он прикрыт хоть несколько и потому не имеет надобности бежать к дому так торопливо, как те, у которых нечем прикрыться… Вот этого-то зонтика, под которым переносит дождь большая часть европейских народов, и не успела дать нам наша предшествующая история. Мы еще только готовимся вступить на тот путь, которым прошла Европа; мы еще недавно и глядеть-то стали на ее путешествия и едва начинаем различать дорогу. От этого идем мы робко, неровно, как бы ощупью; от этого и кажется, что у нас нет инициативы. Но мы чувствуем надобность идти, хотя бы до первой станции; нам нельзя оставаться на одном месте, нельзя и остановиться на дороге. Ясно, что начало нашего пути должно быть совершаемо с большею решимостью, спешностью и твердостью, нежели продолжение пути, которое мы видим теперь у других народов. Наши нужды настоятельнее, без удовлетворения их труднее прожить, нежели без удовлетворения того, к чему стремятся теперь европейские народы. Брайтовская реформа в Англии, свобода прессы во Франции, требуемая каким-нибудь Фавром или Оливье, без сомнения, вещи нужные, и со временем они будут достигнуты; но для них еще время терпит, они далеко не так существенны и настоятельны, как законное обеспечение гражданских прав и материального быта миллионов народа, до сих пор более или менее терпевших от тяжелого влияния произвола. Для этих миллионов дело идет не о какой-нибудь прибавке к правам, которые они уже приобрели прежде, а чисто-начисто о создании хоть каких-нибудь прав, потому что под влиянием крепостного принципа они, если не de jure, то de facto[3], не имели вовсе никаких. Ясно, что жажда приобретения этих прав, если уж она раз почувствована, должна быть сильнее, нежели всякое стремление к расширению прав уже существующих; ясно, что здесь именно всего сильнее может обнаружиться деятельность народного духа, и потому этот предмет заслуживает особенного внимания всех людей, истинно любящих народное благо. Многие до сих пор полагают, что народ, еще не получивший свободы, не должен заслуживать и серьезного внимания, так как он живет и действует не сам по себе, а как ему велят. И это рассуждение было бы справедливо, если бы оно относилось к массе окончательно обессиленной и совершенно лишенной всех человеческих стремлений. Но мы уже сказали, что не верим даже в возможность подобного обезличения целого народа и ни в каком случае не можем навязать его народу русскому]. А если потребность восстановить независимость своей личности существует, то [нам нет надобности знать, получила ли она формальное разрешение или нет: будет ли она освящена формальным образом или нет, – ] во всяком случае она проявится в фактах народной жизни [, решительно и неотлагаемо. Заглушить эту потребность или повернуть ее по-своему никто не в состоянии; это река, пробивающаяся через все преграды и не могущая остановиться в своем течении, потому что подобная остановка была бы противна ее естественным свойствам].
Но какое же именно направление может принять на практике это стремление к приобретению самостоятельности и свободы? Известно, что эти понятия самые неопределенные, и, может быть, ни одно из слов, обращающихся в разговорном обиходе человечества, не возбуждало столько споров, как слово «свобода». Ученые и философствующие люди доселе не могут окончательно согласиться в определении этого понятия; как же поймет его наш простолюдин? Многие уверяют, что, по глупости и необразованности своей, под свободой он будет разуметь возможность ничего не делать [, никого не слушаться], каждый день напиваться и буянить; [читатели наши уже знают, к какому разряду принадлежат люди, провозглашающие такое мнение{15}. Поэтому] мы [о них не станем распространяться, а] скажем только, что [эти] люди, отзывающиеся подобным образом о крестьянах, судят по себе, не принимая в соображение разницы условий, под которыми вырастают они и простолюдины. Для изучения этой разницы им опять надо обратиться к Марку Вовчку: у него найдут они поучительный рассказ в этом смысле, под названием «Игрушечка».
В «Игрушечке» рассказывается история развития прекрасной детской натуры, подобной Маше, но только натуры барской. Сравните оба рассказа, и вы увидите, как несравненно больше залогов правильного, здорового развития заключает в себе жизнь простолюдина, нежели жизнь барчонка или барышни. Там и требования проще, и цель ближе и определеннее, и самый способ рассуждения не так искажен. Самое печальное [и гибельное] искажение мысли простолюдина состоит в том, что он теряет ясное сознание [своих человеческих прав,] своей личной самобытности и непринадлежности никому другому. [На этом пути он действительно доходит до величайших нелепостей, насильственно убивая в себе самые законные требования и стремления своей природы.] Но так как природные требования всегда сохраняют известную долю силы над человеком, то всегда есть надежда навести бедняка на правильную точку зрения. А как скоро уж он на эту точку станет, – он ее применит и к делу; в этой практичности состоит особенность крестьянской мысли [, и в этом заключается ее сила]. Мы обыкновенно философствуем для препровождения времени, [иногда для пищеварения,] и большею частью о предметах, до которых нам дела нет [и которых мы никаким образом изменить не в состоянии, да и не намерены]. Крестьянину вовсе не до такой умственной роскоши; он человек рабочий, он задумывается над тем, что может иметь отношение к его жизни, и задумывается именно для того, чтобы в душе своей найти основание для практической деятельности. Припомните, о чем рассуждала, чего допытывалась Маша и к чему ее привели все ее размышления. [Нам кажется, что в ее лице автор весьма удачно выставил главнейшие вопросы, с которых должна начинаться работа мысли в целом сословии. Первый вопрос, разумеется, должен касаться личной неприкосновенности: «Что же это такое? Я не хочу, а меня тащат; зачем – неизвестно, по какому праву – непонятно; этого не должно быть». В таком простом рассуждении заключается уже зародыш всех возможных прав и гарантий общественных. Известен процесс мышления: когда я хочу объяснить чей-нибудь поступок со мной, я ставлю самого себя на место другого и стараюсь придумать, что могло бы заставить меня на этом месте поступить таким образом; если никаких достаточных мотивов не оказывается, я признаю поступок несправедливым. Поэтому,] если ребенок задумывается над тем, по какому праву другие посягают на его личность, и кончает тем, что не находит тут никакого права, то уже в этом рассуждении вы находите гарантию того, что в ребенке нет наклонности посягать самому на чужую личность. [Таким образом, люди, восстающие против насилия и произвола, тем самым дают уже нам некоторое ручательство в том, что они сами не будут прибегать к насилию и не дадут простора своему произволу;] желание неприкосновенности для своей личности заставляет уважать и личность других. Конечно, и в людях, действующих произвольно и насильственно, надобно тоже предполагать присутствие некоторого желания, чтобы с ними не поступали так, как они с другими; но позволительно думать, что, вследствие совершенно уродливого развития, даже это желание в них не довольно сильно и притом подвержено множеству ограничений. [Замечено, что люди, гордые и деспотичные с низшими, почти всегда являются подлыми ласкателями и беспрекословными овечками перед высшими. Замечено также, что самые неумолимые, самые несносные управляющие в помещичьих имениях бывают из лакеев и что вообще лакеи себя держат пред мужиками гораздо высокомернее, чем их господа. Читатель может сам дополнить эти наблюдения еще несколькими примерами из более обширного круга, и он непременно придет к заключению, что употребление насилия над другими заглушает или по крайней мере очень ослабляет в человеке способность истинно и глубоко возмущаться против насилия над ним самим. В последнее время мы видели, правда, что люди, весь свой век не знавшие другого закона, кроме произвола, вдруг начали кричать против произвола, когда он задевал их интересы. Но зато эти люди обыкновенно покричат, пошумят, да и отстанут: энергически, деятельно защищать то, что они считают своим правом, они не могут, потому что сознание права вообще у них очень потускнело и стерлось.
Итак, первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности.] Рядом с понятием о неприкосновенности личности [неизбежно] является и понятие об обязанности и правах труда. «Я не имею права на стеснение чужой личности, так как никто не имеет права стеснять меня самого; значит, я не могу рассчитывать жить на чужой счет: это значило бы отнимать у других плоды их трудов, то есть насиловать, порабощать их личность. Стало быть, я необходимо должен заботиться сам об обеспечении своей жизни, должен работать: живя своим трудом, я не буду иметь надобности отнимать чужое и вместе с тем, имея материальное обеспечение, буду иметь средства постоянно сохранять свою собственную независимость». Таковы простейшие соображения, из которых вытекает обязанность трудиться, ясная, как день, для всякого простого человека. И эти соображения не выдуманы нами теоретически: они [прочно и глубоко] лежат в душе [каждого] простолюдина. Ему, обыкновенно, даже и в голову не приходит, чтобы можно было жить на свете, ничего не делая: так оно далеко от этого на практике. Скажите любому крестьянину в рабочую пору, чтоб он отдохнул, бросил работу, вы получите простой ответ: а где ж мы хлеба-то возьмем? Не поработаешь, так и не поешь.
Стоит только обернуть рассуждение, приводящее к мысли об обязанности работать, и мы получим вывод о правах труда. «Если я должен работать для своего обеспечения, потому что не могу и не должен воспользоваться плодами трудов моего соседа, то очевидно, что и сосед должен иметь в виду то же самое соображение. Он должен работать для себя, и я никак не хочу и не считаю справедливым отдавать ему то, что я заработал». И вот мы прямо приходим к требованиям и решениям к которым пришла Маша у Марка Вовчка и которые в известной степени проявляются во всем крепостном населении русском. «Что мне работать на других? Лучше я ничего не буду делать», – так рассуждают люди, лишенные [полных] прав на свой труд, и – [или] вовсе отказываются от труда, где можно, как Маша, [например,] или стараются употреблять как можно меньше усилий и усердия для чужой работы, как делают помещичьи крестьяне вообще [по всей России]. Отсюда мы можем сделать простой вывод о том, куда направятся крестьянские силы, как скоро они получат право свободно располагать своим трудом: как Маша, при первой вести о возможности свободы, закричала, что она работать будет, хоть закабалит себя, только бы заработать свой выкуп, так точно и целая масса, после освобождения, обратится к усиленному труду, к заботам об улучшении своего положения. Теперь ведь уж весь труд освобожденного работника – его, ему принадлежит [неотъемлемо]; значит, чем больше он потрудится, тем больше и приобретет, тем лучше будет и его положение. При таких условиях даже и временное лишение личной свободы не так тяжело. Замечательно, что Маша для приобретения свободы хочет закабалить себя: это значит, что для нее главным образом не то тяжело, что она не может делать всего, что хочет, а то горько, что она должна отречься от прав на свой труд без всякого резона, бог весть зачем. Отдавая себя в кабалу, она знает, что тут условия делаются обязательными с обеих сторон; она будет в кабальной работе, а за нее зато выплатят выкуп. [Таким образом, для нее видно здесь начало и основание ее рабства; да виден и конец, и притом конец, до некоторой степени все-таки сообразный со смыслом, так как кабальный термин рассчитывается пропорционально величине уплаты и стоимости работы закабаленного. Ничего подобного не было в том состоянии, под которым жила Маша у своей барыни: там ни начала, ни конца, ни входа, ни выхода, ни смысла, ни расчета – один только произвол и вследствие того полное отсутствие всяких личных гарантий и определенных прав; что захотят, то с тобой и сделают, без резона, без отчета, без ответа… Это-то всего более и невыносимо для человека, у которого хоть чуть-чуть начинает просыпаться требование справедливости, от природы присущее всем людям, но во многих заглушаемое принижением и придушением их личности.]
Таким образом, предполагая, что крестьяне получают свободу, мы видим вслед за этим, как прямой результат, – увеличение количества и возвышение качества их труда. Само собою разумеется, что мы не смеем прилагать всех вышеизложенных рассуждений, как непременного условия, к правительственным мерам освобождения, приводимым теперь к концу в редакционной комиссии. Мы говорили только о том, что должно быть вообще, по требованию логики и наблюдений над крестьянским бытом и характером; но мы нимало не хотим касаться специально хозяйственных и административных вопросов, подлежащих рассуждению комиссии, [и заранее определять возможные последствия тех мер, какие будут приняты правительством. Меры эти весьма естественно могут произвести свои особые действия, весьма различные от тех, какие мы можем предвидеть, рассуждая о деле в общих чертах и представляя только логические его определения. Но наша задача состоит только в указании на некоторые черты народного характера, а вовсе не в определении способа действий крестьянских комитетов и комиссий, до которых нам здесь совсем нет дела. Поэтому, останавливаясь на самых общих намеках на то, каким образом должна быть принята и употреблена свобода каждым простолюдином нашим,] мы теперь возвратимся к той параллели, к которой, как мы сказали, подает повод рассказ «Игрушечка». «Игрушечка» – [есть не более, как] искажение имени Аграфена, Груша, Грушечка, [но] искажение, полное грустного и тяжелого значения. Эта Груша, крестьянская девочка, в самом деле была весь свой век игрушечкою своей барышни и барыни, а барышня и барыня, [загубившие ее век,] были, в сущности, совершенно невинные, добрые создания, которые никогда бы не согласились мучить и губить людей: они могли только играть, забавляться ими. Вся барская жизнь, изображенная в «Игрушечке», полна такой идиллии, что становится совестно сказать жесткое слово об этих господах. Ни малейшего следа какого-нибудь расчета, преднамеренности, злобы или хитрости не видно во всей их жизни, во всех их, даже самых дурных, поступках. Как они живут и что их занимает, это нам всего лучше расскажет сама «Игрушечка» (стр. 132–135).
Господа наши были молоды. Нашу барыню все красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, белая – только ленивая… Господи, какая она уж ленивая-то уродилась! И глянет-то она на тебя вполглаза. Всей работы у нее было, всего дела, что из горницы в горницу плавает, склонивши головку набок, и длинным своим платьем шелковым шуршит. Оживится немножко она разве, как гостьи наедут, говорливые, да веселые, да осудливые. Поднимут на зубки и чепчики разные, и генеральшу московскую, поахают о городе Париже да побранят свой уезд, – тогда и наша барыня головку поднимет и заговорит себе громче… Барин поживее ее был, веселые песенки все певал да насвистывал. Говорили, что не башковат он, ну да зато смирен был. С барынею они жили согласно, и она была барыня добрая. Никого они не карали, не казнили, они и сердиться-то редко сердились. Приди кто из людей с какой просьбой к ним, – ничего, не выгонят, разве только пускать не велят, коли докучило, или пообещают, да не сделают – забудут. Жили да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вот это сидят, бывало, в гостиной; барин свистит, а барыня глазками по горнице поводит, и вдруг ей в голову пришло: «Мой друг, – говорит барину, – а ведь голубые-то обои были бы лучше в гостиной!» Барин так и вскочит горошком. «Душечка, какая мысль тебе хорошая пришла. Где у меня-то рассудок до сих пор был?» И давай себя по лбу ляскать… «Ну такого дела откладывать нечего, сегодня же в город пошлем, а к воскресенью чтобы все готово было». – «Да, да! – подхватит барыня, – приедут Анна Петровна и Клавдия Ивановна – вот удивятся-то! А уж Анна Федоровна так рассердится, что за обедом ничего есть не станет. Непременно к воскресенью, мой дружок!» И примутся хлопотать, примутся суетиться. В страхе эти дни живут: все им чудится, что карета во двор въезжает. «Ох, кто-то приехал, кажется», – говорят, а сами в лице меняются. Удивить хотят, видите, и вдруг – если б застали, что стены ободраны! А иных тревог, других забот у них, кажись, и не бывало. Никогда я не видала, чтобы барин наш призадумался, чтобы барыня всплакнула, – нешто безденежье или барышня захворает. А безденежье их часто пристукивало. Любили они оба и жить роскошно, и наряжаться богато. Барыня все шелковые разные платья носила да в тонких кружевах ходила. Барин тоже щеголь великий был: шейный платочек все голубиным крылышком завязывал, да, бывало, иной раз с утра до самого обеда бьется и не сладит. «Вот день-то несчастный выдался, – вздохнет, – никак не слажу!..» И барыня к нему тут на помощь придет, и Арину Ивановну кликнут, да словно к венцу прибирают, – все около него в заботе такой, хлопотах… А уж как вырядится он – таким брындиком выйдет, пред зеркалами останавливается да так приятно на себя поглядывает и рукой все себя по щеке поглаживает…
Это еще все бы не разор был, если б только не меняли они всего до ниточки каждый год по скольку раз. Мало ли на один дом шло? И к рождеству и к святой, бывало, весь обновляют. И как уж весело тогда барин хлопочет! Сам картины прибивает… Ведь чудно покажется, как сказать, а скажу правду: до страсти любил он гвоздики вбивать, и, случись, что по усердию кто ему услужить поспешит, то так огорчится… Потом уж все так и знали, сами не брались никогда, а ему приготовят молоток. И правду тоже надо сказать, что уж никто так гвоздичка не вобьет: так он наловчился, что только глянет – и потрафит, куда надо гвоздику…
Поедут ли в город господа – чего они не накупят! И самоваров навезут, и сушеного горошку, а дома под самоварами в кладовой полки ломятся, горошку садовники на целый год запасают; понавезут они обои штофные, каких-то рыбок горьких в банках, табакерки с музыкой… Разносчики ли наедут – купцы хитрые, зоркие – сколько они денег оберут! «Не берите, батюшка, – говорят барину, – это оченно дорогое, вы вот себе подешевле возьмите». Барина словно подожжет: «Подавай мне самое дорогое!» Да и купит такое же самое втридорога. Еще, бывало, и сдачи не возьмет. И поглядывает на купцов бородатых: вот я вам пустил пыли в глаза! А купцы от радости даже вздыхать почнут… А как именины справляют или рождение! Пойдут тут сборы да приборы такие, – сохрани боже! И вина выписывают, и конфекты выписывают, и шаль, и чепчик барыне, и шейный платочек, и желтые перчатки барину… «Да уж, кстати, будут посылать, – говорят, – то выписать и то, и вот это б выписать», и пятое – десятое… Да так наберется, что на почту телегу надо посылать… Хоть много им утехи на именинах бывало, да много ж и хлопот, и тревог не мало: ведь совсем измучатся, пока отбудут, ходючи да думаючи тяжко: что лучше к обеду подать? да как цветы уставить? да чем генеральшу бы удивить и покойного сна ее лишить? Изморятся, бывало, словно на барщине.
Это [изображение барской жизни] надо причислить к лучшим страницам последней книги Марка Вовчка. В добродушном [тоне рассказчицы нам слышится уже не раздраженный, озлобленный памфлетизм, не страстная борьба, а спокойный, нелицеприятный, торжественный суд истории над самой сущностью, над принципом крепостного права. В] этом рассказе видны нам не только пустота и ничтожество добрых господ, выросших в крепостных понятиях, но ясно просвечивают самые основные причины этой пустоты и ничтожества. Вы видите, что этих людей [забили и] обезличили хуже, чем всякого крестьянина; их лишили сознания своего достоинства и обязанностей, у них отняли всякую возможность серьезно взглянуть на себя, у них вынули душу и заменили ее несколькими условными требованиями и сентенциями житейской цивилизации. Вместо всех велений здравого смысла им с малолетства вбито в голову и срослось с ними понятие, что они должны жить [на чужой счет], сами ничего не делая, что это [их право,] их призвание на земле. Сообразно с этим призванием ведено было все их воспитание [, все умственное и нравственное развитие]. Оттого они ничему не выучены, ничего не умеют, [ни к чему не наклонны особенно,] оттого они не знают, чем наполнить пустоту своего времени, оттого они не умеют даже рассчитать своих расходов, предвидеть свое безденежье, сообразить, что им нужно купить и чего не нужно. [У них не может быть подобного расчета, потому что им сказано: «Ты имеешь то-то и можешь наслаждаться тем-то», но никогда не дано даже и мысли о том, что они собственными трудами должны приобрести право на пользование благами жизни. Мысль о труде, как необходимом условии жизни и основании общественной нравственности, столько же недоступна им, как и мысль об уважении в каждом человеке его естественных, неотъемлемых прав.] Им никогда не придет в голову взглянуть на себя серьезно, задать себе вопрос – зачем они живут на свете и что такое составляют они среди общества, от которого требуют и получают всякого рода блага и услуги. Вот об них-то можно [с полным правом] сказать, что в них нет никакой инициативы и что жизнь их лишена всякого внутреннего смысла. Сами по себе они – ничто; они живут животною, почти автоматическою жизнью, покамест не истощены средства, доставшиеся им по милости судьбы; как скоро этих средств нет, они – несчастнейшие, беспомощнейшие существа. Лишенные всяких ресурсов к обеспечению своего существования, лишенные всякой опоры в себе самих, [не понимая даже того, что значит уважение к самому себе,] они готовы на всевозможные унижения [и пошлости], чтобы только перебиться как-нибудь. Игрушечкины господа, промотавши без толку все свое именье, переезжают на житье к тетеньке, старой [ханже и] скряге, которая каждый день попрекает их [и читает им наставления]. И они принуждены безмолвно [и покорно] сносить ее обращение: им ничего более не остается, как жить у кого-нибудь из милости, предаваясь совершенно капризам того, кто их кормит. Зато у них остается привилегия [дармоедства и] ничегонеделанья…
А между тем ничегонеделанье-то привито к ним искусственно! Естественная ничем и никогда незаглушаемая потребность деятельности не теряет и над ними своего влияния. Беда только в том, что, по своему [уродливому] воспитанию, [ни барин, ни барыня] не только взяться ни за что не умеют, но даже не могут и придумать для себя какой-нибудь дельной работы: так ограничен круг их знаний и стремлений! И приискивают они для себя специальности вроде вбивания гвоздиков да повязывания галстука голубиным крылышком, и придумывают труды и заботы вроде перемены обоев и мебели… Ведь вот пристрастился же этот господин к вбиванию гвоздиков и сделался весьма искусным мастером своего дела: почему же не быть ему искусным плотником, сапожником, обойщиком? И конечно, будь бы он иначе воспитан и находись в других обстоятельствах, – так он бы и нашел какое-нибудь полезное занятие для себя и не был бы таким паразитным существом [, способным только заедать чужой век и чужие труды]. Тогда бы он был и гораздо самостоятельнее, тверже, независимее, не знал бы этих маленьких, но для него тяжких огорчений, которые он испытывает при неудачной повязке галстука или в то время, как в гостиной стены ободраны. Тогда естественно получил бы он наклонность и рассчитывать и обдумывать свою жизнь и не впадал бы в такое положение, которое описывает «Игрушечка»: «Пиры у господ за пирами, а тут глядь – денег нету. Вот сядут тогда они в гостиной и сидят – приуныли. Один в окошко глядит, другой в другое; «ах-ах-ах-ах», – ахают. А прошла беда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенели опять, и опять обеды званые, гости нахлынули, пир горой, и весело живется и хорошо им» (разумеется, опять до первого безденежья). Ничего нельзя представить глупее такого положения, и только с малолетства к нему приученные в состоянии переварить его. Зато какую же и скуку-то они испытывают: недаром ходят из угла в угол да смотрят вполглаза, точно сонные; недаром убивают время над повязыванием галстука голубиным крылышком. Да и обеды-то и вечера-то они больше затем дают, чтоб чем-нибудь занять и развлечь себя: тоска их одолевает смертная, а помочь не знают чем и даже не думают, что тут [серьезная] помощь нужна…