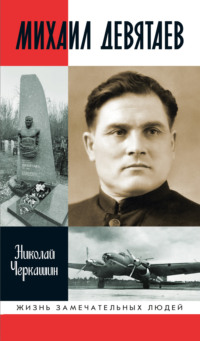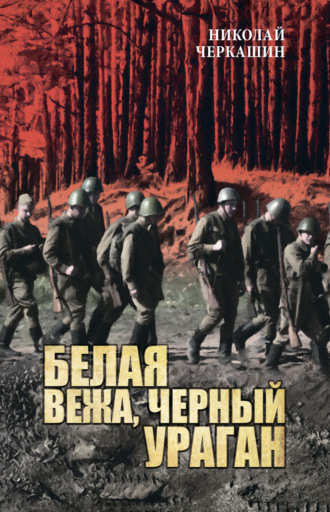
Белая вежа, черный ураган
Все они и сгорели. Когда разъяренный Фанифатов взломал наконец дверь, в камине догорал последний ворох бумаг.
Будь его воля, он бы набросился на атташе и придушил его или надавал по физии. Но в Варшаве еще оставались наши дипломаты, и пришлось соблюдать статус неприкосновенности.
– Почему пан не открывал дверь?! – подступал он с бессильным гневом.
– Согласно инструкции я могу открыть дверь по специальному стуку – три коротких и три длинных. А в дверь стучали беспорядочно, – с вежливой издевкой отвечал Пиотровский. Крыть было нечем…
За упущение секретных документов польского генконсульства майор Фанифатов был снят с должности и отправлен с понижением в никому не известную 49-ю стрелковую дивизию на должность начальника Т-ретьего отдела.
Глава пятая. Севастопольская страда
В последний год Васильцова донимала бессонница. Голова была обвязана тугой чалмой ночных дум. Иногда он подшучивал над собой: «спал плохо, но мало». Спасало любимое суконное одеяло, которое всегда переезжало с ним в портпледе – что на походные биваки, что на казенные квартиры. У одеяла было одно важное свойство (во всяком случае, Константин Федорович в это свято верил): стоило в него завернуться с головой, и все служебные, житейские, любовные и прочие проблемы отлетали в стороны, как пули от брони. Правда, проблемы эти, приняв обличье тех или иных людей, так и стояли в изголовье постели и только того и ждали, чтобы Васильцов высунулся из-под своей «брони». Они тут же набрасывались на него, забивая клетки мозга своими неотложными делами: «подписать, согласовать, прибыть, составить, разобраться, наказать, поощрить, срочно доставить, отчитаться…» Не было от них спасения, кроме потертого походного одеяла. Но больше всего досаждала одна настырная мысль – она проникала даже в «укрытие» и сверлила, как зубная боль: «Не успеем…» Не успеем завершить укрепрайон, оборудовать доты, поставить в них орудия… Не успеет и он, полковник Васильцов, привести свою 49-ю стрелковую в боевую готовность. Да и как ее сейчас приведешь, когда дивизию раздергали, оставили без артиллерии, без саперов, без ПВО, когда ее так разбавили молодыми, необученными, а главное, непонимающими русского языка бойцами-азиатами? И никто тебе не придет на помощь, если немцы навалятся; фланги голые, соседи далеко. Далече и всезнающие начальники – что командир корпуса, что командующий армией, и уж тем паче командующий фронтом… Вот от этой мысли могла избавить только хорошая доза местного бимбера[7] или фабричной зубровки. А поутру – капустно-огуречное похмелье.
А тут еще сплетня, которую пересказал ему Потапов – будто бы он, полковник Васильцов, завел себе любовницу в лице жены своего подчиненного майора Робака. Да, он брал у Ирины Власьевны, у преподавательницы немецкого языка, платные уроки. Но не более того.
И хотя комиссар не поверил в навет, все же сердце заныло тупой животной болью, как палец, придавленный грязным каблуком. Ни одной нотки, облагораживающей страдание души, не было в этой боли.
В темной тишине громыхали настенные часы… Под утро все же уснул. Однако сон обломился, как кончик карандаша, не дорисовав картинку на самом интересном месте. Выпроставшись из последней пелены последнего сюжета, Васильцов покинул холостяцкое ложе.
Он встал так рано, что пес, вышедший из коридора встречать хозяина, долго и сладко – с привизгом – зевал во всю пасть, свертывая язык в розовую трубочку. Васильцов потрепал Гая по холке… Жуткая помесь боксера и водолаза. Точнее – водолазки. Еще точнее – ньюфаундленд-суки. Где они нашли друг друга, этот боксер и эта водолазка?
Гай был старожилом дворца – остался от прежних хозяев, но и новых владельцев усадьбы он принял с радушием доброго старого дворецкого. Одного корня – и дворянин, и дворецкий, и дворняга. В общем, собака осталась «служить» при штабе.
* * *Кроме своего призрачного дореволюционного офицерства был у Васильцова и еще один повод тревожиться за свою судьбу. Там, в Москве, да и никто в мире, ни одна живая душа, не знала того, каким путем он попал в Красную Армию. Знал только старший брат – лейтенант Алексей Васильцов, но он был расстрелян в декабре 1920 года в Севастополе. Константин приехал к нему, к единственной родной душе, сразу же после октябрьского переворота. Алексей снимал две комнаты в частном доме на Лабораторном шоссе. Братья не прожили и двух недель, как началась дикая большевистская охота на офицеров, оставшихся в городе, на офицеров, выбравших не чужбину, а родину, офицеров, не ушедших с Врангелем за кордон. Севастополь – город офицерский, главная база Черноморского флота, поэтому арестантов набралось столько, что у большевистских главарей Мате Залка и Розалии Залкинд (Землячки) возникла проблема с расстрельными местами. Вывозили за город, на обширную Максимову дачу, стреляли в Карантинной балке, в руинах древнего Херсонеса и даже на Малаховом кургане… Даже англичанам и французам, захватившим город в 1854 году, не пришло в голову такое кощунство – проводить казни на кургане русской воинской славы. А большевикам – пришло. Немцы с турками на такое бы не решились, а большевики решились.
Васильцов всегда разделял большевиков и коммунистов.
Большевик – это пена у рта, это фанатическое сверканье зрачков и черный зрак направленного в тебя маузера. Большевизм – это громкие, но несбыточные обещания, это идея всемирного господства ли, потопа ли, революции ли… Насмотрелся Васильцов на таких в Севастополе.
Другое дело – коммунисты, полагал он. Коммунисты – это самые толковые, самые правильные, самые деловые парни из толпы. У них слово с делом не расходится. Молча, порой стиснув зубы, невзирая на угрозы, насмешки, ехидные крики, они делают то дело, которое и нужно делать именно в этот час, в этот день, в это время.
Большевизм – это бешеная карьера – с земли в поднебесные высоты, это презрение к массам и всевластное управление ими. Это готовность положить сотни, тысячи людей за то, чтобы они, большевики, оставались у власти и чтобы народные массы покорно следовали командам большевиков.
Большевики. Да, их, к сожалению, больше, чем нормальных политиков, и они предельно жестоки, когда речь идет об их пребывании у власти. Но они очень трусливы, когда их разоблачают, когда их изобличают, проливают на них свет.
Это они придумали жестокие максимы – кто не с нами, тот против нас. Кто против нас, того в расход, а если враг не сдается, его уничтожают.
Или такие благоглупости: «У нас каждая кухарка сможет управлять государством», «Из всех искусств для нас важнейшее – кино».
Для кого – для «нас»? Для большевиков? Да. Потому что кино – великолепный инструмент по организации масс.
Но была в том и своя нечаянная правда. Кухарка действительно может управлять государством, если это честная и благоразумная женщина. Любой честный и благоразумный человек может управлять государством, если он не пускается в неудержимое казнокрадство и если он не прельщается опьяняющими бреднями типа: «мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Ни один из тех, кто был никчемным человеком, не стал «всем». Хотя… В этой новой, послереволюционной, жизни порой совершенно никчемные люди становились, если не «всем», то очень многим, занимали те самые посты, с которых, подобно ленинским кухаркам, управляли, как им казалось, государством. Государством, стоявшим на плечах и спинах рабочих и крестьян.
Во всероссийскую партию коммунистов Васильцов вступил для того, чтобы бороться с большевиками. Но это случилось в 1930 году, когда новый вождь Страны Советов, товарищ Сталин начал борьбу с «верными ленинцами», бывшими политкаторжанами и прочими большевиками. Командир стрелкового батальона Васильцов был хорошим коммунистом, взысканий по партийной линии не имел, не раз отмечался на армейских и окружных партконференциях… Но тогда, когда в декабре 1920 года к ним во двор ворвались красноармейцы в поисках «контры», они с братом вышли к ним, вооруженным винтовками с примкнутыми штыками, с голыми руками. У Алексея был наган, но он зарыл его под поленницей в сарае.
В соседнем дворе, за каменной стенкой, душераздирающе вопила соседка: ее мужа, вышедшего к «охотникам за контрой» в парадном мундире с золотыми погонами и Георгием на груди, застрелили тут же – у входа в дом. Васильцов несколько раз видел его мельком. Это был коренной севастополец, командир береговой батареи, прикрывавшей Севастополь со стороны мыса Хрустальный – весьма представительный капитан по Адмиралтейству с архиерейской черной бородой. Он частенько перебрасывался с соседом шутками и все грозился пригласить на «братский ужин». Не успел…
Братья тоже могли запросто схлопотать пулю, хотя и вышли без погон и без оружия. И наверное, схлопотали бы, если бы оба красноармейца – один постарше и потверже, другой помоложе и похлипче – не были так пьяны. Штыки и стволы в их руках описывали неуверенные круги.
– Шо, господа хорошие, спугались?! – спросил тот, что постарше, в извозчичьем картузе с матерчатой красной звездой на околыше. – Ор-ружье, золото и все буржуйское – на стол!
Из всего буржуйского Алексей выставил на стол бутылку коньяка, подаренную ему на день рождения. Это был спасительный ход. Старшой тут же схватил бутылку и стал изучать ее пробку.
– Отрава поди?
– Натуральный коньяк.
– А ну, сам хлебни!
Алексей открыл пробку и плеснул в кружку, стоявшую на столике в беседке. Тем временем молодой боец блеванул мощным фонтаном все выпитое и съеденное за время облавы. Он завалился на садовую скамью, не выпуская, впрочем, винтовки из рук. Старшой же с наколотым якорьком на руке глотнул коньяку из кружки и внимательно вгляделся в Алексея.
– А я тебя, ваше благородие, признал. Никак с миноносца «Гаджибей»?
– Никак нет. С миноносца «Пронзительный».
– Один хер – все равно офицер.
– Лейтенант Васильцов.
Но красноармейцу уже было все равно, кто стоял перед ним. Он последовал примеру своего подчиненного – завалился на спинку скамейки и тяжело захрапел. Тут бы в самый раз деру дать, но улица была оцеплена. Алексей поднял упавший на землю кожаный картуз со звездой и протянул его брату:
– Надевай!
– Зачем? – удивился Константин.
– Меня поведешь как бы под конвоем. Понял?
Константин понял и осторожно вытащил из рук спящего винтовку. Алексей порылся в нагрудном кармане «охотника за контрой» и передал брату.
– Возьми на всякий случай. Пригодится… Ну, давай – вперед и с Богом!
Он заложил руки за спину, как положено арестованному, и двинулся к калитке. Константин пошел за ним, держа винтовку наизготовку. Так и вышли на Лабораторку, так и пошли по ней вниз – к вокзалу. И все встречные понимали – серьезную птицу ведут под личным конвоем. И никому в голову не приходило удивиться поразительной схожести лиц – «контрика» и конвоира в кожаном картузе с кумачовой звездой на околыше. Так бы все и прошло и братья бы сели в одну из теплушек, стоявших близ вокзала да и укатили бы в первый попавшийся крымский городок, где их никто не знал и знать не хотел. И спаслись бы, если бы дорогу им не пересекла длинная колонна моложавых людей в разнородной гражданской одежде. Это куда-то гнали собранных на Корабельной стороне офицеров. Константин тогда не знал, что всех их гонят на убой. В голове не укладывалось, как стольких людей можно расстрелять без суда и следствия, только потому, что они когда-то служили в армии и на флоте. Даже немцы не расстреливали пленных, отправляли в лагеря – солдат в солдатские, офицеров в офицерские. А здесь – свои, на одном языке говорили, на одной земле жили, на одной – германской – войне воевали… У него и сейчас, в полковничьих летах, это не укладывалось. А тогда… Тогда он без особых треволнений последовал приказу какого-то важного красного начальника, стоявшего в открытом, несмотря на холодный ветер с моря, авто. Рядом с ним куталась в меховую куртку дама в очках. Это уже потом, много лет спустя, понял, что видел самых главных в Крыму расстрельщиков – Бела Куна и Землячку. А тогда он даже подумал, что присутствие женщин смягчает больших начальников, поэтому все будет хорошо.
– В колонну гони, в колонну! – кричал начальник из автомобиля. – Поторопись!
И Алексей встал в общую колонну, а Константин пошел сбоку, как конвоир. Шли долго, через весь Севастополь. Наконец вышли на край города – к Карантинной балке. Место дикое, глухоманное, все в огромных каменьях и ямах. Здесь колонну встретили другие красноармейцы, а конвоиров погнали обратно – к вокзалу, где находился сборный пункт. Уже тогда Константин почуял неладное. Но кто-то сказал, что там, в Карантинке, соберут общий лагерь. Кто ж знал, что всех собранных и согнанных вчерашних защитников отечества, а ныне «врагов народа» положат из пулеметов? Константин потом долгие годы, да и по сию пору, не мог себе простить, что конвоировал брата к месту расстрела. Да, конечно, это была уловка. Да, конечно, не знал, что там устроили побоище (одно из многих побоищ, как выяснилось ныне). И все же было в том нечто каинское… Константин многие годы не верил, что такое произошло. Он и в Красной Армии остался, чтобы проще искать Алексея было – через военные структуры. Но никакие структуры не могли дать точный ответ о его судьбе. Лишь один мрачный тип с четырьма шпалами в петлицах – очень большой энкавэдэшный чин, сказал ему попросту:
– Да не ищи ты своего брательника ни в каких списках. Нет его там, как нет и многих других. Тогда стреляли не по спискам, а по наличествующим головам.
И Васильцов сдался – перестал искать. Занес брата в мертвый стан.
Тогда в Севастополе вышло так: Васильцова с краснозвездным картузом на голове общим чохом включили в какой-то сводный отряд для охраны состава с продовольствием, который гнали в Москву и в Петроград. Он и уехал, от греха подальше. В пути, где-то под Воронежем, начальник спецэшелона назначил толкового и, по всему видно, грамотного парня (Константину тогда было двадцать два года) командиром охранного взвода. Драгоценный груз – кукурузное зерно, муку, вяленую рыбу и что-то еще съедобное в коробках, банках и ящиках – доставили в целости и сохранности. Все получили благодарности, а взводного Васильцова отправили на курсы Красных командиров, которые размещались в корпусах бывшего Павловского юнкерского училища. Красным командиром, полагал Константин, легче будет искать брата, легче оказать ему помощь – вызволить из лагеря. Он и искал, пока не напоролся на угрюмого НКВДешного чина, явного большевика… Все надежды рухнули.
Васильцов несколько раз приезжал в Севастополь, бродил меж каменьев Карантинной балки, опрашивал местных жителей, задавал вопросы властям… Но никто ничего не смог сказать о судьбе Алексея Федоровича Васильцова.
И тут он вспомнил, что в Балаклаве жила невеста Алексея – Лена-Елена. Он собирался жениться на ней сразу, как только поутихнут страсти вокруг Севастополя. Но не успел. Константин видел ее всего лишь однажды, когда случайно встретились на Приморском бульваре. Алексей весьма церемонно представил его своей Ундине, так он ее отрекомендовал. Она, Лена-Елена, и в самом деле была хороша, хотя Севастополь женскими статями не удивишь. Город издавна славился как великолепная оранжерея невест. Константин и сам намеревался подыскать там подругу по жизни. Но тоже не успел… Итак, Елена из Балаклавы… Вот и все, что он знал о ней. Маловато для поиска. Но он все же поехал в Балаклаву на таксомоторе, расспрашивая водителя наобум лазаря, нет ли у него знакомой блондинки по имени Елена.
– А чем она занимается?
– Да так… Просто очень красивая была девушка. Сейчас уже, конечно, женщина. Ей, наверное, лет под сорок.
– Тогда вам в ЗАГС надо. Там уж точно всех невест знают.
Сказал в шутку. Но в ЗАГСе к вопросу красного командира, каким и предстал там Васильцов, отнеслись серьезно. Перешерстили картотеку регистраций. Нашли трех подходящих по возрасту Елен. Одну он узнал! И о чудо – через четверть часа звонил в дверь домика, стоявшего на горной круче высоко над морем. Дверь открыла хозяйка – Елена, в домашнем фартуке и с высоко подвязанными волосами. Конечно, юная краса поблекла, но все же она по-прежнему была мила и привлекательна. Она, конечно же, помнила Алексея. Более того, она порылась в ящичке под столиком трюмо и достала из кожаного очешника свернутую в трубочку записку.
– Моя подруга Катя тоже хорошо знала Алексея, мы часто ходили вместе в Офицерское собрание. Она хорошо пела. Она жила на краю города, у самой Карантинки. Она стояла и смотрела на колонну, которую остановили на спуске в Карантинную балку. Почти все арестованные были молоды, за исключением нескольких седобородых отставников. Были там и сестры милосердия в серых платьях, белых фартуках с красными крестами. Их тоже обрекли на смерть. Они держались кучно и пели псалмы. Колонна сбилась в толпу, которую охраняли всадники. Катя узнала Алексея. Она на всю жизнь запомнила его лицо: вьющиеся есенинские кудри, бледный цвет лица и большие, наполненные болью и слезами глаза… Он понимал, что их ждет… Он уже заготовил записку и спрятал ее в золотом медальоне. И когда Катя его окликнула, он сразу же бросил ей медальон. Она поймала его в воздухе и тут же спрятала за корсаж. Охранники, по счастью, ничего не заметили. Катя принесла мне вот эту записку, написанную его рукой.
Константин не сразу смог ее прочесть – глаза заволокло влажной дымкой. Потом он справился с чувствами и прочел вслух:
«Умоляю, передайте родным и маме, что меня расстреляли в Севастополе. Целую, люблю их всех… Алексей Васильцов. Адрес…»
– Да вы садитесь, садитесь, я сейчас кофе сварю… А хотите, скумбрию пожарю – свеженькая!
– Спасибо. Как-нибудь в другой раз…
– Говорят, что такие прощальные записки бросали в толпу многие, когда их вели по городу. Они уже знали, что их не пощадят, и потому писали: «нас сегодня расстреляют…», «ведут на расстрел…», «сегодня я живу последний день…» и так далее.
За что, за что их лишили жизни?! Они же не преступники! – выкрикнула вдруг Елена и спрятала лицо в ладонях…
И тогда Константин, уже будучи подполковником, выхлопотал на кладбище коммунаров местечко и соорудил там надгробье-кенотаф: здесь покоится прах Алексея Федоровича Васильцова 1895–1920 гг.». Вот и все, что он мог сделать для старшего брата, которого невольно пришлось отконвоировать к месту гибели. «Комплекс Каина» усугублялся еще и мыслью, которая преследовала многих офицеров, оставшихся служить в Красной Армии: «а не трусливое ли это приспособленчество? Не спасение ли это собственной шкуры?» И всякий раз, когда эта мысль возникала, Васильцов прогонял ее рассуждением: «Я служу не убийцам своего брата. Я служу России, своему народу, на котором нет крови Алексея. Его убили большевики. С них и будет однажды спрос. А я непримкнувший попутчик. Я иду в ногу со всем народом».
Мысль эта не раз сокрушала его душевный покой, когда она женился. Тесть, отец Татьяны, оказался крупным чином в НКВД. Татьяна поначалу это скрывала, говорила, что служба отца настолько секретна, что она и сама о ней ничего не знает. Но прошел год-другой – и по-семейному, все так же негласно, выяснилось, что Маркел Родионович служит замначальника управления НКВД по Ленинградской области и имеет чин, если привести его звание в соответствие с армейской Табелью о рангах – генерал-майора. И опять заныла эта почти утихшая мысль: а что бы сказал Леша, если бы узнал, как распорядился дарованной им жизнью Константин? Не осудил бы он его: «Эх, брат, с кем ты связался, кому ты служишь, ты же вроде офицерские погоны на плечах носил, а не большевистские петлицы на воротнике?!» И Константин приводил в свое оправдание множество слов и суждений.
Однажды он посвятил своего тестя в поиски брата. Тесть всегда одобрял выбор дочери, правда, поглядывал на зятя свысока. А тут и вовсе нахмурился:
– Нигде никогда никому не говори, что брат у тебя расстрелян! – строго-настрого предупредил он. – Говори, что погиб на Первой мировой. Иначе вред принесешь и себе, и своей семье, и моей семье. Я прекрасно понимаю, что ты ни в чем не виноват и он наверняка не виноват. Но сейчас время такое, что лучше помолчать. А об Алексее твоем я постараюсь навести справки. Не серчай и зла ни на кого не держи. Тогда время было такое.
Поймав себя на повторении, он сбился и закончил без пафоса:
– Много всяких сволочей притянула к себе наша революция. Особенно в первые годы. И настоящие бандиты, и садисты. Потом, конечно, очистились. Да и сейчас еще очищаемся… Так что не надо на советскую власть обижаться.
– Да я на советскую власть и не обижаюсь. Она тут вовсе ни при чем.
Васильцов хотел продолжить свою мысль насчет советской власти и большевиков, но вовремя осекся. Не стоило посвящать тестя в глубину своих размышлений. А суть его вывода состояла в том, что вовсе не большевики придумали советскую власть. Они взяли себе эту идею и приспособили к своему правлению. Очень легко было действовать, прикрываясь, как ширмой, «властью Советов» – коллективным правлением. А уж аппарат такого народовластия большевики подбирали по своему усмотрению. Благо голосование было тайным и закрытым.
Не стал он пускаться в дебаты с генералом госбезопасности.
Тесть Маркел Родионович оказался порядочным человеком. Мало того, что он сохранил в полной тайне разговор с зятем о брате. Он всерьез озаботился проблемой крымских репрессий 1920 года.
– Скажу тебе честно: я был против этих расстрелов, за что потом мне влепили выговор за «политическую незрелость». Я и сейчас не шибко-то созрел, чтобы одобрять и Бела Куна, и его кунку – Землячку. Там еще и третий гад был – Юрка Пятаков. Но его потом тоже стукнули, как и Куна. Розу Залкинд, Землячку, суку жженную, к партийной ответственности бы привлечь. Но все боятся с ней связываться.
Однажды Васильцов обнаружил на журнальном столике в гостиной довольно объемистую папку с документами по «очищению Крыма и Севастополя от вредных социальных элементов». То ли забыл ее тесть, то ли нарочно оставил, чтобы Константин негласно почитал материалы. Так или иначе, но Васильцов как сел, так и не встал до вечера. А когда перевернул последнюю страницу, то застыл, потрясенный до глубины души.
Он прочитал:
«В коллективном труде французских историков “Чёрная книга коммунизма” расстрелы в Крыму названы “самыми массовыми убийствами за всё время Гражданской войны”. По официальным советским данным, только в крупнейших городах полуострова было расстреляно более 56 000 человек.
Массовые расстрелы в Севастополе происходили во многих местах: на территории Херсонесского заповедника, на городском, Английском и Французском кладбищах, в Карантинной балке и на Малаховом кургане. Однако главным эшафотом для экзекуции стала Максимова дача. Усадьба севастопольского градоначальника, удаленная на несколько верст от города, почти скрытая от глаз густым парком, стала единой братской могилой для сотен людей.
В могильные ямы Максимовой дачи легли не только сотни офицеров и солдат русской армии, но и представители гражданского населения – сестры милосердия, учителя, инженеры, актеры, чиновники. По некоторым данным, жертвами расстрелов стали и около 500 портовых рабочих, обеспечивавших погрузку на корабли врангелевских войск…» На полях от руки было дописано карандашом и почти стерто ластиком. Почти. Васильцов примерил бумагу против света и прочитал: «Их было трое палачей русской армии – Кун, Розалия Залкинд и Георгий Пятаков…» Еще было что-то дописано, но стерто полностью. Оставалось гадать – кто писал и кто стирал?
Глава шестая. Злая осень 39-го
Варшава заявила протест по поводу эксцесса в минском генконсульстве: все понимали, что «возмущенный народ», к тому же воодушевленный началом освободительного похода в Западную Белоруссию, ворвался в диппредставительство совсем неслучайно. Но протест остался без ответа. Обе стороны прекрасно понимали подоплеку «народного возмущения». Да и МИД Республики Польша был занят более серьезной проблемой, чем соблюдение дипломатического суверенитета. Немецкая авиация бомбила Варшаву каждый день…
Советским дипломатам, работавшим в Варшаве, повезло намного больше. Немцы довольно любезно приняли на границе вагон со всем советским посольством. Дипломатов и рядовых сотрудников, в том числе и машинистку Нику Мезенцеву, привезли в Кенигсберг, а затем отправили спецпоездом в Москву. В это же время польским дипломатам во главе с консулом Витольдом Оконьским разрешили покинуть Минск в полном составе.
Там, в Кенигсберге, Ника приняла окончательное решение разойтись с мужем, брак расторгли в Москве. Теперь это никак не могло повредить супругу. В Ленинград она вернулась, вдоволь истосковавшись по дочке и маме. И никто ей больше не был нужен. Никто!
Все два года, проведенные в посольстве, показались ей своего рода заточением. И теперь она обретала свободу общения, передвижения, выражения чувств и мыслей. Через неделю, придя в себя, она вернулась на работу в свой геодезический трест.