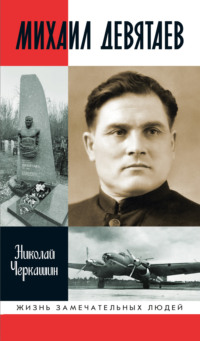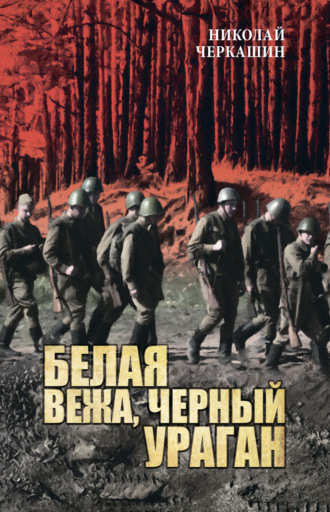
Белая вежа, черный ураган
Позже старшим по званию стал начальник брестского укрепрайона генерал-майор Пузырев, но тот никогда не претендовал на свое воинское старшинство, понимая, что бал в городке правит командир дивизии, без пяти минут генерал Васильцов, а он, Пузырев Михаил Иванович, всего лишь строитель, начальник 62-го укрепрайона, и они никак не подчинены друг другу. Он и на бывший графский кабинет, в котором устроился Васильцов, претендовать не стал, а обосновался в отдельной постройке в усадебном дворе.
Главной примечательностью здесь был старинный парк, за который хозяйка усадьбы получила даже медаль в Париже. Благодаря ее заботам аллеи радовали глаз и австрийской сосной, и лиственницей, росли здесь и черешчатый дуб, и высоченные туи, повсюду цвели желтые и белые акации.
Для своего штаба Васильцов выбрал самое красивое здание в местечке – «Александрию», (так назывался дворец эмигрировавшего графа Потоцкого) – белый одноэтажный особняк с классическим портиком о четырех колоннах. «Александрия» меньше всего походила на дворец – здание очень простой архитектуры, без претензий на какой-либо ампир или рококо.
Дворец стоял на возвышении, к нему вела дорога, мощенная «косткой». От левого флигеля простирался старинный парк, еще не запущенный и не заросший. Одну из комнат этого флигеля – с видом на парк – Васильцов взял себе под квартиру. В ней было довольно тихо и светло, а самое главное – она вместе со всем штабом находилась под приглядом охранной роты. Меблировал он ее по-спартански: железная солдатская койка, в изголовье старинный ломберный столик на гнутых ножках с перекидным календарем, венский стул и шкаф для одежды. Ну и стальной личный сейф под столиком.
В остальных покоях и флигелях с большим удобством разместились все отделы штадива. Командиру дивизии отошел еще и бывший графский кабинет, от прежнего убранства которого сохранился лишь большой письменный стол на львиных лапах из беловежского дуба, да курительный столик, вещь совершенно забытая в советском быту, но памятная Васильцову по временам отрочества и юности. Такой же стоял и у них дома: на мраморной столешнице, словно приборы на лабораторном стенде, поблескивали тусклой бронзой спичечница, пепельница, папиросница, шандал со свечой и гильотинка для обрезания сигар. Васильцов приглашал сюда на перекур своего комиссара Потапова, строгого, но справедливого вятского мужика, мудрого от природы и стойкого в своей партийной вере. Здесь они сиживали в неформальной обстановке, неспешно обсуждая насущные дела и международные события.
Над столиком висела картина (Васильцов поначалу думал, что оригинал, но потом выяснилось, что это все же копия) Шишкина «Срубленный дуб в Беловежской Пуще». Оказывается, художник приезжал в эти края на этюды по совету самого императора Александра III: «Поезжайте, голубчик, в Белую Вежу. Посмотрите, что такое настоящий лес!» И Шишкин поехал и, вполне возможно, жил именно в этом дворце, в гостях у графа Потоцкого. Мог бы ему и оригинал подарить!
От былого убранства «Александрии» осталось очень немного: кресло на резных ножках и с резными подлокотниками, с потертой, но еще вполне замечательной спинкой из зеленого бархата да большая картина, которая не входила ни в двери здешних хат ни по размеру, ни по степени обнаженности трех дев. Васильцов не сразу понял смысл картины, ему объяснил бывший врач графа, который пользовал сегодня весь городок. Старый караим, он был настоящим эрудитом – кроме восточной медицины он был весьма сведущ в живописи, в ботанике, в истории, и даже геодезии, поскольку начинал свою трудовую деятельность землемером. Именно он, Матвей Матвеевич, и объяснил новому хозяину дворца, что на полотне художник такой-то (Васильцов фамилию не запомнил) изобразил аллегории Мужества, Тревоги и Отчаяния, наблюдающие за битвой. Больше всех ему нравилась дева с кинжалом в руке – Мужество. Такая за себя постоит. Она еще и Отчаяние утешает. Молодец, наш человек!
И кресло, и картину Васильцов велел перенести в свой кабинет.
А еще от прежних хозяев во дворце остались матерый рыжий кот, который охотно откликался на новую кличку Черчилль, и большой беспородный пес Гай. Оба были зачислены на штабной кошт. Оба прекрасно справлялись со своей задачей – снижать нервное напряжение сотрудников штаба дивизии.
Полки, а также отдельные дивизионы и батальоны дивизии были расквартированы в окрестных селах и деревнях. И в парке, и на улицах, и во всех магазинах городка всегда мельтешил военный люд, так что создавалось впечатление, что это не город вовсе, а военный лагерь.
Беда, с которой столкнулось командование дивизии, состояла в том, что на территории, которая отводилась 49-й дивизии, фактически не было помещений, приспособленных для размещения войск. Уж если в самом поветовом центре, в Высоком, кроме усадьбы графа Потоцкого, некуда было приткнуть даже охранную роту, то что говорить об остальном казарменном фонде. С большим трудом расположили два батальона 15-го полка и 79-й батальон связи.
В местечке с населением в шесть тысяч человек не нашлось свободных помещений для воинского постоя. Из шестисот домов почти все – деревянные хаты, кроме нескольких школ, мукомольни да двух спиртовых фабрик. Полковнику Васильцову надо было за считанные месяцы до зимних холодов разместить здесь тысячи красноармейцев, а кроме них – коней, автомашины, орудия, трактора, танки… В окрестных местечках тоже было тесновато. Пришлось разбросать дивизию по полкам и дивизионам в ближайших селах, в городках, станциях… Некоторые из них уже были заняты, как те же Семятичи: там уже квартировал штаб соседней 113-й стрелковой дивизии, прибывшей сюда в апреле 1941 года. Пришлось изрядно потесниться разведбату 49-й дивизии[3]. Ни одна местность в СССР, а может быть, и во всем мире не была столь насыщена войсками и боевой техникой, как эти приграничные области Белоруссии. Запад дышал угрозой, и это смертное дыхание вызывало прилив воинской силы со всем ее грозным железом и огнем, упрятанным в корпуса бомб и гильзы снарядов. Повсюду равняли грунт под взлетно-посадочные полосы, выли лесопилки, вырабатывая брус и доски для казарменных бараков. Повсюду строились, зарывались в землю, бетонировали котлованы под бункеры – готовились к неизбежному…
* * *Чаще всего полковник Васильцов отправлялся в недалекое местечко Волчин[4], где располагался его 15-й стрелковый полк, стоявший ближе всех к границе. Приезжал он сюда не один, а со штабными спецами – на рекогносцировку, посмотреть в бинокли на соседей-немцев.
Командовал полком его земляк-ленинградец и тезка – 35-летний майор Константин Нищенков. К тому же связывала их одна и та же кадровая тайна. Нищенков тщательно скрывал (и ему это удавалось), что он из старого морского рода дворян Нищенковых, один из представителей которого, близкий родственник – Алексей Аркадьевич Нищенков, капитан 1-го ранга императорского флота и начальник Черноморской разведки, остался в белом зарубежье и пять лет назад скончался в Югославии. Стань это известно «органам», Нищенков мгновенно бы расстался и со своим полком, и со всей РККА, и непонятно, как бы сложилась его жизнь на «гражданке».[5] Полковник Васильцов был в свое время немало наслышан о порт-артурском герое Алексее Нищенкове, командире нескольких первых российских подводных лодок «Плотва», «Осетр» и «Граф Шереметьев». Он даже лично был знаком с ним в Севастополе. Но нигде и никогда о том не обмолвился. Даже земляку не намекнул, что он пил коньяк с его дядей. Быть может, и Константин Нищенков догадывался о военно-морском прошлом своего комдива, может быть, потому и тянулся к нему и чтил его. Впрочем, их отношения вполне укладывались в субординационные рамки начальника и подчиненного.
– Ну, товарищ майор, идемте полюбуемся на ваших соседей! – предлагал полковник Васильцов, и все они, штабисты, местные и приезжие, шли в один из блиндажей, предназначенный для скрытного наблюдения за сопредельной стороной.
И Васильцов приникал к окулярам сильного морского бинокля, единственной вещи, оставшийся со времен его былой флотской службы. В оптическом окружье плыл вражеский берег Пульвы, на котором мало что выдавало присутствие вермахта. Офицеры вермахта владели искусством оперативной и тактической маскировки. Но все же войск нагнали столько, что никакие уловки не могли их скрыть. Да они уже и не пытались это делать. Вон, в ста метрах от речки лежат штабелями лодки местных рыбаков, доставленные из глубины губернаторства понтоны, штурмовые боты. Ясен пень – для внезапной массовой переправы.
– И к бабке не ходи, – заметил Нищенков, – форсировать Пульву готовятся.
– Весь вопрос: когда они на это дело решатся? – опускал тяжелый бинокль Васильцов, оставляя над веками и ниже четкие круги наглазников. Никто не мог ответить ему на этот вопрос…
Глава третья. Шукай кобеты!
Май в Варшаве выдался по-летнему жарким. За столиком уличного кафе на Иерусалимских аллеях сидели двое. Со стороны – два прожигателя жизни, жуиры, повесы. Один другому подмигивал:
– Смотри, какая женщина! Не та, а вот, через два столика справа. Ну?
– Женщина как женщина. Вполне милая.
– Сам ты – милый. Ничего ты в женщинах не понимаешь! Она же настоящая красавица! А профиль какой! Только на медалях выбивать.
– Вот первую медаль тебе и вручим. «Шерше ля фам». Или ближе к нам: «Шукай кобеты».
– Зря смеешься. Это женщина могла изменить твою жизнь к лучшему.
– У меня и так прекрасная жизнь!
– Что ж в ней хорошего? Обычный батяр[6], приехал покорять Варшаву с пятью злотыми в кармане. И вообще, кому сейчас нужны искусствоведы? Где ты работу найдешь?
Такой разговор состоялся в ничем не приметной варшавской кавярне на Иерусалимских аллеях между двумя молодыми людьми. Один – Владек Волчинский – чуть постарше, или таким его делала щегольская бородка а ля мушкетер. Другой – Станислав Пиотровский – темноволосый атлет в тоненьком пенсне со шнурком. Эти широкие плечи и тонюсенькие стеклышки так диссонировали между собой, что сразу же приковывали к нему взгляд. К тому же он был хорош собой и одет в костюм-тройку при галстуке-боло с серебряной эмблемой, обвязанной модным узлом.
Женщина не спеша пила черный кофе и очень красиво держала в тонких пальцах тонкую пахитосу, которая так же неспешно испускала табачный дымок. Она была в изящ-ной соломенной шляпке с золотистой лентой.
– Пусть батяр, – слегка обиделся на батяра атлет. – Но Варшаву я покорю.
– Я тоже так считал, когда приехал сюда из нашего Богом хранимого Волчина… И…
– И?
– И покорил ее! Я сотрудник Министерства иностранных дел. У меня приличный оклад, положение и все такое прочее. Мне ничего не стоит завоевать сердце этой красотки. Могу подсесть к ней и познакомиться. Но я хочу, чтобы это сделал ты!
– Я?! Странное желание.
– Стасек, мы учились с тобой в одной гимназии. Наши родители в юные годы чуть не поженились между собой. И тогда бы я был тобой, а ты – мной. Забавно, не правда ли? Но они сделали правильный выбор, и я считаю тебя почти братом.
– Спасибо! Я к тебе тоже родственные чувства испытываю.
– Тогда давай выпьем за это! Сто лят!
– Сто лят! Но почему ты мне так сватаешь эту жен-щину?
– Потому что она поможет сделать тебе блестящую карьеру.
– Откуда ты знаешь, если ты видишь ее впервые?
– Я вижу ее не впервые. Она приходит сюда довольно часто и всегда в одно и то же время. Ее зовут Николь. Она сотрудница советского посольства в Варшаве. Наше министерство очень заинтересовано в том, чтобы она осталась в Варшаве и не уезжала в Москву. На то есть особая причина. Я пока умолчу. Но если ты сделаешь то, о чем я прошу – познакомишься, пригласишь ее куда-нибудь или у вас завяжутся более сложные отношения, тогда ты очень поможешь и мне, и нашему министерству. И тогда я смогу рекомендовать тебя на хорошую должность в нашем МИДе.
– Но я не дипломат.
– Я тоже не дипломат. Дипломат – это не профессия, это призвание. Состояние духа, воспитание, вкус, умение мыслить наперед. Все это у тебя есть. И даже со своим искусствоведением ты все равно будешь нам полезен. В конце концов, мы постоянно имеем дело с предметами искусства, картинами. Будешь экспертом по культуре.
Станислав засмеялся.
– Твоими устами да мед пить.
– Сам будешь мед пить да эклерами заедать. Иди. Познакомься. Пригласи. Уведи. Все, что от тебя требуется. А дальше моя забота.
– Даже не верится, что все так просто… Во всяком случае, я не могу гарантировать, что она останется из-за меня в Варшаве. К тому же я смотрю – у нее обручальное кольцо.
– Да, она замужем. Но этот брак чисто номинальный. Разведенных супругов возвращают на родину, им не доверяют международные дела.
– Если ты так много о ней знаешь, то почему бы тебе самому не заняться ею?
– Не заставляй меня повторять сказанное! Я хочу, чтобы мы вместе работали в одном ведомстве. Иди и дерзай! Или ты боишься женщин?
Стасек молча встал и подошел к столику, где сидела женщина в шляпке. Возможно, она почувствовала, что эти два молодых человека о ней говорят, во всяком случае, частенько поглядывали в ее сторону. Женщины такие вещи воспринимают особым чутьем, седьмым, восьмым или девятым.
– Прошу прощания, пани, я могу сесть за ваш столик?
– Да, пожалуйста.
– Не сочтите за назойливость. Но мой друг-художник открывает сегодня свою выставку. И в его галерее висит ваш портрет.
– Мой? – искренне удивилась женщина.
– Да, ваш. У меня хорошая зрительная память. Я сам некоторым образом художник. Вы никому не позировали?
– Никому и никогда!
– Странно… Но каким образом он написал ваш портрет?
– Вы уверены, что мой?
– Вы сами в этом можете убедиться. Это совсем рядом, на соседней аллее. Я уверен, что он подарит вам этот портрет. Он обязан это сделать, раз вы ему позировали.
– Да никому я не позировала! Но вы меня заинтриговали. Идемте посмотрим.
Стасек подал даме руку, и они поднялись по ступенькам из цоколя кавярни. Стасек обернулся – Владек поднял большой палец! Во! Он был явно восхищен скоростью развития событий.
Станислав вел спутницу на соседнюю улицу, где у его друга-живописца и неплохого портретиста была студия. Разумеется, никакого портрета Николь там не было. Но в его довольно обширном собрании можно было найти похожий портрет и потом уверять женщину, что это она. «Ах, возможно, я немного ошибся, но все же какое сходство! Вы так не считаете? Жаль. Я уже хотел было приобрести этот портрет, чтобы подарить вам…» Стасек уже наперед выстроил будущий разговор, но нести весь этот бред ему не пришлось. Дверь мастерской оказалась запертой. Друг, по счастью, куда-то вышел. Но знакомство-таки состоялось! И даже обещало продолжиться – Николь согласилась заглянуть сюда еще раз. Загадочный портрет ее очень заинтересовал. Стасек попал в точку! Он проводил женщину до самого посольства и оставил ей свою визитку. Она достала из сумочки свою карточку: «Посольство СССР в Республике Польша. Княженика Николаевна Мезенцева. Сотрудник отдела информации. Телефон…»
Стасек вернулся в кавярню и нашел там приятеля, который с кофе переключился на коньяк. Владек подмигнул и приподнял бокал:
– Силен! Не ожидал! Молодец! Считай, что ты принят в наше министерство!
Ближе к вечеру Стасек еще раз наведался к приятелю-художнику, попросил у него гуашь и лист бумаги и по свежей памяти набросал неплохой портрет Николины. Особенно хорошо получилась соломенная шляпка. Он вставил портрет в рамку, вывесил в галерее и попросил хозяина вручить эту работу его подруге от своего имени.
Все вышло наилучшим образом. Ника была изумлена портретным сходством, особенно шляпкой. Благодарила художника за великолепный подарок и все допытывалась, где и когда он смог сделать этот моментальный портрет. Хозяина ответил так, как его научил Стасек:
– Однажды я вам все расскажу. А пока пусть это останется маленькой тайной.
Потом они все втроем пили в любимой кавярне капучино с эклерами. Говорили обо всем на свете. И главное, Ника обещала найти время для серьезного портрета маслом.
Сотрудникам советского посольства категорически воспрещалось наносить частные визиты в частные дома. Но, оправдывала себя Ника, художественная галерея не может считаться частным домом, как и мастерская живописца. Галерея, студия, кафе – все это никак не подпадало под категорию «частного дома». Конечно, по прихоти иного блюстителя зарубежного этикета сотрудницу Мезенцову можно было обвинить в нарушении запрета. Но, во-первых, она была всего-навсего обычной машинисткой, во-вторых, посещала галерею, хоть и частную, но почти все художественные галереи в Варшаве были частными. В-третьих, и это главное, все в посольстве были заняты более важными и более тревожными делами. Назревал военный конфликт Польши с Германией, в воздухе явно витали токи военной грозы, и все посольство работало в усиленном режиме. Даже тайным сотрудникам НКВД не было особого дела до визитов машинистки Мезенцевой в художественные галереи.
А тем временем их знакомство с искусствоведом Станиславом Пиотровским продолжалось и развивалось. Они перешли на «ты», встречались как добрые приятели. Станислав познакомил ее с Владеком (по настоятельной просьбе последнего), и теперь они втроем совершали прогулки по Свентокшицкому парку и даже посидели как-то в приличном ресторане. Это было в конце мая, в праздник Матери. Выяснилось, что у Николь есть замечательная трехлетняя дочурка, которая живет у бабушки в Ленинграде. Поздравляли маму, восхищались фотографиями Аксиньи, фотографиями Питера…
Стас преподнес букет роз. Все это было принято с благодарностью, с поцелуями в щечку, с искренней влагой в глазах…
Но поцелуи в щечку – еще не супружеская измена. Кто знает, может, именно они гальванизируют затухающие отношения с мужем?
Глава четвертая. В тени Иерусалимских аллей
А на следующий день Владек привел Стасека к своему шефу. Его резиденция находилась в скромном особнячке в одном из дворов на Хмельной улице. Никакой вывески перед входом не было, но Станислав вполне догадался о том, куда он пришел. Да, это была одна из конспиративных квартир «двуйки», и шеф Владека, как оказалось несколько позже, был полковником военной разведки Генерального штаба Войска польского. Пан Менжински. Или просто пан Вацлав. Лоб у него был широкий и в складках, как у породистого дога. Большие глаза смотрели из-под кустистых бровей с добрым любопытством. Он крепко пожал руку:
– Премного наслышан о вас, молодой человек, от Владека! Давно хотел с вами познакомиться.
Туго и гладко зачесанная секретарша принесла три чашечки очень крепкого кофе.
После всех официальных и неофициальных, вполне доверительных слов Стасек понял, что он блестяще выполнил свое задание: вывел на Николь вербовщика «двуйки». Как и что там получилось с вербовкой, он не знал. Сейчас на кону была его дальнейшая судьба. Как и обещал Владек, перед ним открылась крутая лестница в новую жизнь. Пан Менжински без обиняков предложил перейти на службу в его ведомство. Никаким МИДом здесь не пахло, но… Но с министерством иностранных дел у пана полковника были самые тесные связи. Он предложил Пиотровскому отправиться в генеральное польское консульство в Минске и занять там должность помощника атташе по культуре. Это вполне соответствовало профилю Пиотровского, и он, почти не раздумывая, согласился. Еще бы – о такой серьезной ступени в своей скромной карьере он даже не помышлял. И сумма оклада заставила сердце радостно вздрогнуть. О таком заработке он тоже не мечтал. К тому же пан Вацлав добавил ко всему сказанному, что Пиотровскому будет присвоен первичный офицерский чин «хорунжий» и после подписи необходимых документов он получит четкий инструктаж о своей работе в Минске.
Так, через неделю хождений на Хмельную улицу к пану Вацлаву скромный искусствовед стал кадровым сотрудником «двуйки», который под прикрытием статуса дипработника – помощника атташе по культуре, будет разъезжать по всей территории БССР в поисках братских захоронений польских солдат времен советско-польской войны 1920 года. Все его поездки являются абсолютно легальными, разрешенными белорусскими властями. Но главной его задачей будет сбор сведений о передвижениях советских войск и военных объектов в зоне поиска солдатских могил. Этим занимался его предшественник, но по серьезной болезни его пришлось отозвать на родину.
Обязанности агента-маршрутника показались Станиславу несложными. И через день, получив приличную сумму подъемных, он выехал поездом Варшава – Москва в Минск. Дорога была недолгой. В Минске его встретили и разместили в консульском доме, в однокомнатной квартире на Советской (бывшей Захарьевской) улице.
Он уже многое знал о генеральном консульстве со слов пана Вацлава. Оно было открыто в 1924 году в самом центре белорусской столицы. А через три года под крышей дипломатической миссии была создана ячейка «двуйки» (польской разведслужбы) – «пляцувка» (площадка) U-6. Ею руководил ротмистр Гжегож Долива-Добровольский (псевдоним «Юзеф»). Поначалу Юзеф занимался изучением материалов, публикуемых в белорусской прессе. Но с 1928 года и по текущий 1939-й U-6 занималась более важными делами – вела наблюдение за военными объектами РККА, изучала места ее дислокации, составляла подробные схемы дорожных коммуникаций БССР. На первых порах сотрудники «пляцувки» ездили железнодорожным транспортом, а затем генконсульство выделило им легковой автомобиль. Шпионов опекали работавшие тогда в Минске польские консулы Хенрик Янковский и Станислав Забелло. Важнейшим заданием для этой «пляцувки» было получение максимального количества информации о Всесоюзных больших маневрах Красной Армии, проходивших в 1929 году под Бобруйском. То был пик успеха U-6. И ротмистр Долива-Добровольский получил чин подполковника.
Станислав активно включился в новую для него работу и быстро в ней преуспел. В Варшаву уходили блистательные характеристики на нового сотрудника.
Однако его бурная деятельность во благо Генерального штаба Войска польского не осталась не замеченной советской контрразведкой. Генконсульство тогда «опекал» майор госбезопасности Фанифатов. Вел он свою «опеку» довольно успешно и многое держал на карандаше. Знал он, что последней дипломатической «пляцувкой» польской разведки в Минске была «L-19», а ее руководителем был Владислав Вольский (псевдоним «Матей Монкевич»). «L-19» вскрывала дислокацию советских войск. Но больше всего ее интересовала фортификация Минского укрепрайона (линия Сталина). За год до начала Второй мировой войны в здании консульства была смонтирована специальная подслушивающая станция «Х». Такую же станцию «Р» установили в Варшаве – в здании, где располагался второй отдел Генерального штаба Войска польского. Патронировал эту весьма оснащенную «пляцувку» польский консул Витольд Оконьский. Перед самым началом «сентябрьской войны» сотрудникам «L-19» удалось вывезти в Польшу ценного информатора – гражданку СССР Евгению Веретинскую, жившую под Дзержинском.
За этот успех польской разведки майор Фанифатов получил предупреждение о неполном служебном соответствии и, конечно, очень переживал и, конечно же, рыл копытом землю, чтобы доказать свою профпригодность. Но особого случая не представлялось, хотя он лично выезжал на маршруты атташе по культуре Пиотровского, следил за его поездками из окна своего автомобиля, замаскированного под карету скорой помощи. Но, увы, поймать молодого атташе за руку ему так и не удалось.
Пройдет время, падет под ударами вермахта Польша, и наработками польской «двуйки» станут активно пользоваться немецкие генералы, планируя нападение на Советский Союз. Об этом писал потом в своем «Военном дневнике» шеф германского генерального штаба Франц Гальдер. Агентам польской разведки удалось собрать подробную информацию о гарнизонах Красной Армии в Минске, Могилеве, Бобруйске, Слуцке, Витебске, Смоленске, Полоцке, Лепеле. Весьма точная давалась оценка новым образцам советской военной техники. Однако наибольший интерес представляли данные о строительстве дорог и мостов в БССР, чем в первую очередь занимался хорунжий Станислав Пиотровский. Тем не менее при всей проницательности минских агентов «двуйки» они прохлопали приготовления советской стороны к походу в Польшу нескольких советских армий. Полагали (и в Варшаву так сообщали), что большевики держат войска на «рижской» границе постольку, поскольку в Польше немцы ведут боевые действия. Это была роковая ошибка. И ранним утром 17 сентября 1939 года в польское генконсульство нагрянула толпа «возмущенных граждан» во главе с переодетым в комбинезон металлиста майором Фанифатовым. Минчане желали поквитаться с ненавистной всем панской Польшей и, оттеснив сотрудников дипведомства, вытряхивали из столов и шкафов стопы бумаг.
Лишь один из них – атташе по культуре Пиотровский – заперся за железной дверью «комнаты для сжигания секретных документов» и жег в камине кипы секретных донесений, сводок, отчетов… Фанифатов попытался взломать дверь, но под рукой не оказалось ни ломика, ни топора. Он прекрасно понимал, что происходит за секретной дверью, кричал, угрожал, но Пиотровский делал свое дело – ворошил кочергой в груде бумаг – гори, гори ясно!