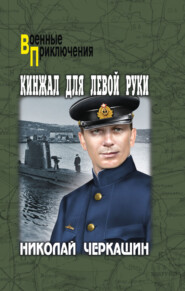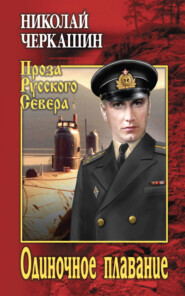По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Студеный флот
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Симбирцев поглядывает на меня испытующе. Я беззаботно помешиваю ложечкой чай.
– Значит, так. Глубина впадины Уилкинсона, где они начали погружение, – две тысячи четыреста метров. На борту «Трешера» команда полного штата и заводские спецы – всего сто двадцать девять человек. В восемь утра они ушли с перископной глубины и через две минуты достигли стодвадцатиметровой отметки. Осмотрели прочный корпус, проверили забортную арматуру, трубопроводы. Все в норме. Доложили по звукоподводной связи на спасатель и пошли дальше. Через шесть минут они уже были на полпути к предельной глубине – метрах на двухстах. Темп погружения замедлили и к десяти часам осторожно опустились на все четыреста. На вызов «Скайларка» «Трешер» не ответил. Штурман, сидевший на связи, забеспокоился, взял у акустика микрофон и стал кричать: «У вас все в порядке? Отвечайте! Отвечайте ради бога!» Ответа не было.
Чай в моем стакане остыл. Я без труда увидел этого американского штурмана, привставшего от волнения и кричавшего в микрофон: «Отвечайте ради бога!»
– Они ответили. Сообщение было неразборчивым, и штурман понял только, что возникли какие-то неполадки, что у них дифферент на корму и что там, на «Трешере», вовсю дуют главный балласт. Шум сжатого воздуха он слышал с полминуты. Потом сквозь грохот прорвались последние слова: «…предельная глубина…» И тишина.
На спасателе еще не верили, что все кончено. Решили, что вышел из строя гидроакустический телефон. Часа полтора «Скайларк» ждал всплытия «Трешера». Но всплыли только куски пробки, резиновые перчатки из реакторного отсека, пластмассовые бутылки…
Обломки «Трешера» обнаружили через год на глубине двух с половиной километров. К нему спускался батискаф «Триест» и поднял кое-какие детали. Но по ним так ничего и не определили…
– Но какую-то версию все-таки выдвинули?
– Версий было много. Американские газеты писали про «тайную войну подводных лодок», мол, его, «Трешер», подстерегли и всадили торпеду. Но это чушь, и они сами это признали. Возможно, кто-то из личного состава ошибся, и они пролетели предельную глубину. Но скорее всего, в сварных соединениях были микротрещины. Очень спешили в море, не провели дефектоскопию… Ладно, Сергеич, пойду посижу на спине, послушаю шумы моря через подушку… О, чуть не забыл! Подушкин наш, бригадный Штирлиц, – знаешь?
– Нет.
– Высокий такой – полтора Ивана, особист бригадный, просил передать тебе, чтобы при первой возможности зашел в особый отдел эскадры. Это на Лунина, пять.
– С чего бы это?
– Да не бери в голову. Скорее всего, пытать будут насчет торпеды – как и почему оборвался трос. Меня уже опросили… Ну давай, спокойной ночи!
Я тоже раскатываю тюфяк, застилаю диванчик простыней и укладываюсь между стальной боковиной стола-сейфа и бочечным сводом правого борта. Подводная лодка вздрагивает от шквальных порывов, будто лошадь от ударов хлыста. Поскрипывает дерево обшивки. Покачивает. Я лежу как в колыбели. Лишь одна мысль отравляет душевный покой: «Зачем вызывают в особый отдел?»
На языке вертятся слова из шуточной весляровской песни: «Наутро вызывают в особенный отдел: “Что же ты, подлюга, в лодке не сгорел?!”»
И все-таки – зачем? Насчет торпеды? А если нет? А если еще что-то?
Жить с этим неотвязным вопросом – все равно что под дулом пистолета ходить.
5. Башилов
…А наутро ударили весенние морозы. Буря стихла. Море затянуло летучим паром, будто рваное облако расстелилось по заливу. В одной из проредей мелькнула усатая голова то ли нерпы, то ли тюленя.
Торпедный кран медленно катится по рельсам причала. Промерзший металл визжит и хрустит, словно битое стекло под катком.
Рубка изнутри обсахарена инеем. Торпедоболванка на пирсе серебристо-пушистая и похожа на елочную хлопушку. Вахтенный у трапа греется в клубах пара, бьющего из дырявой трубы под причальным настилом. Морозно. Брр…
Команды подводных лодок вышли на расчистку снежных заносов. «Объект внешней приборки», закрепленный за нашим экипажем, – многомаршевый деревянный трап, ведущий на вершину пологой с берега, но крутой с моря сопки. На картах она именуется «гора Вестник», и это весьма точно определяет роль высоты в жизни подплава. С ее голой вершины идут в штаб вести о штормах и циклонах, летящих к Северодару. Казалось, именно там находится главный диспетчерский пункт, по приказам которого все эти бураны, шквалы, вьюги отправляются по своим маршрутам.
Лестницу так замело, что она превратилась в скат многоярусного трамплина. Матросы скалывают «карандашами» – корабельными ломами – лед со ступенек. Сбоку, у перил, я замечаю чьи-то узкие следы. Они не могли быть оставлены ни разлапистыми матросскими «прогарами», ни офицерскими ботинками. Это был женский след, след Королевы, и он вел в рубленый домик музыкальной школы. При одной только мысли, что я могу сейчас ее увидеть, сердце забилось резкими клевками. Шапка стала тесной и жаркой… Я стащил ее, потом надел… Поглядел по сторонам: ближайший ко мне матрос – Данилов, длинный худой москвич, – равнодушно долбил лед, никто на меня не смотрит.
Я поднимаюсь по трапу, и дома, корабли, люди становятся все меньше, все мельче… Зато открылись вершины дальних сопок и кручи островов. Базальт бугрился округлыми вспучинами, и видно было, что лестница взбиралась по застывшему в яростном бурлении каменному вареву древнего вулкана. Лунный ландшафт сопки состоял сплошь из наплывов, складок, впадин, точно вокруг были свалены скульптуры неких гигантских тел, и они полусплавились так, что округлости одного перетекали во впадины другого.
Посреди первозданного хаоса стоял бывший храм Николы Морского с сетью антенн, заброшенных в невидимый океан эфира. Но и храм этот был повержен, ибо вопреки христианским канонам в алтаре его, хоть и бывшем, волхвовала живая богиня.
Отсюда, с вершины Вестника, зимнее море в белой кайме припая открывалось широко и плоско – до самого горизонта, пушисто размытого дымкой. Его не заслоняли ни скалы, ни острова, ни извивы фиорда. Пожалуй, только отсюда и виден был тот синий мир, в толще которого жили рукотворные рыбины – наши странные корабли.
Лодка Медведева с белыми цифрами «105» на рубке вытянулась под горой во всю свою змеиную длину. За ее острым черным хвостом оставался бело-зеленый след взбитой винтами воды. Сто пятая уходила в автономку.
На мостике торчали три головы в зимних кожаных шапках: Медведева, его старпома и боцмана у сигнального прожектора. Потом появилась еще одна, и что-то блеснуло над перископной тумбой. Присмотревшись, я узнал «колокольчик» – выносной динамик громкоговорителя. «Колокольчик» направили раструбом на нас, то есть на гору Вестник, и вдруг на всю гавань грянуло удалое руслановское:
Живет моя отрада
В высоком терему.
А в терем тот высокий
Нет входа никому!
Людмила поигрывала уголком шали. Королева Северодара слушала серенаду. Жаль, что магнитофонную…
Песня металась в гранитной теснине, разбивалась на эхо, так что в домик долетало и «отрада», и «никому» – сразу. С рейдового поста замигал прожектор. Людмилин помощник, оторвавшись от метеокарты, читал семафор по слогам: «Ко-ман-диру ПЛ. Что за ре-сто-ран “Поп-ла-вок”. Вопрос. Объявляю выговор. Контр-адмирал Ожгибесов».
Медведев отсемафорил: «Вас понял. Благодарю за пожелание счастливого плавания. Командир ПЛ».
Так уходила сто пятая…
Я был уверен, что от такой серенады растает сердце любой женщины. Но Королева вдруг разозлилась.
– Ага! – повернулась она ко мне. – Так это по вашей милости я летела сегодня с лестницы?! Вы знаете, что я из-за вас колготки порвала?!
– Запишите их на наш лицевой счет! – попробовал я отшутиться. Но женщины меньше всего склонны потешаться над порванными чулками.
– Вас бы по этой лестнице спустить! За зиму ваши матросы могли хоть раз здесь появиться?!
Как хорошо, что я не успел сказать, что у матросов были более важные дела, чем скалывать лед со ступенек.
– Еще раз так запустите лестницу – буду звонить командиру эскадры!
Я пообещал, что гидрометеослужбе не придется обременять адмирала подобными просьбами, и ушел, гордо расправив плечи. Но едва я спустился на злополучный трап, как поскользнулся и лихо проехал по забитым снегом ступенькам. Вскочил, отряхнулся… Кажется, никто не заметил.
Боже, скорей бы в море! Если только выпустят особисты. Зачем я им?
И тут я понял, в чем дело! Косырев!
Бригадный пропагандист. «Пропаганец». Вынюхал и заложил.
За полчаса до конца политзанятий я всегда объявлял матросам:
– А теперь всем писать письма! – И раздавал бумагу, чтобы не драли листы из конспектов.
У матроса-подводника на базе почти нет свободного времени. Письма домой пишут редко, урывками. Почта работает преотвратно, так что многие родители месяцами не получают весточек от пропавших на северах сыновей. Абатуров передал мне уже несколько тревожных запросов: «Где мой сын? Почему от него нет писем?»
Пусть лучше они пишут письма, чем выводят под запись липовые цифры грандиозных планов. Я понимаю, что для нашего начпо (у него на эскадре две клички – НачЧМО и Папа-Гестапо) это чудовищная крамола. Но тут никто из матросов меня не заложит.
Всякий раз, когда я вынужден талдычить им об успехах нашей промышленности и сельского хозяйства, меня прошибает тихий стыд. Кому я вешаю лапшу на уши – этим ребятам, которые во сто крат лучше меня знают, что творится в их разоренных деревнях, в их рабочих трущобах? Это им-то, наглотавшимся чернобыльской пыли и такой же радиоактивной кыштымской водицы, детям спившихся родителей, я должен втолковывать про преимущества социалистического образа жизни?
Мне стыдно.
Я окончил Московский университет. В его стенах учились Лермонтов и Полежаев… Мне стыдно нести всю эту околесицу и всю эту самозабвенную ложь, которой меня усердно пичкают со страниц главпуровских пособий и разработок.
– Значит, так. Глубина впадины Уилкинсона, где они начали погружение, – две тысячи четыреста метров. На борту «Трешера» команда полного штата и заводские спецы – всего сто двадцать девять человек. В восемь утра они ушли с перископной глубины и через две минуты достигли стодвадцатиметровой отметки. Осмотрели прочный корпус, проверили забортную арматуру, трубопроводы. Все в норме. Доложили по звукоподводной связи на спасатель и пошли дальше. Через шесть минут они уже были на полпути к предельной глубине – метрах на двухстах. Темп погружения замедлили и к десяти часам осторожно опустились на все четыреста. На вызов «Скайларка» «Трешер» не ответил. Штурман, сидевший на связи, забеспокоился, взял у акустика микрофон и стал кричать: «У вас все в порядке? Отвечайте! Отвечайте ради бога!» Ответа не было.
Чай в моем стакане остыл. Я без труда увидел этого американского штурмана, привставшего от волнения и кричавшего в микрофон: «Отвечайте ради бога!»
– Они ответили. Сообщение было неразборчивым, и штурман понял только, что возникли какие-то неполадки, что у них дифферент на корму и что там, на «Трешере», вовсю дуют главный балласт. Шум сжатого воздуха он слышал с полминуты. Потом сквозь грохот прорвались последние слова: «…предельная глубина…» И тишина.
На спасателе еще не верили, что все кончено. Решили, что вышел из строя гидроакустический телефон. Часа полтора «Скайларк» ждал всплытия «Трешера». Но всплыли только куски пробки, резиновые перчатки из реакторного отсека, пластмассовые бутылки…
Обломки «Трешера» обнаружили через год на глубине двух с половиной километров. К нему спускался батискаф «Триест» и поднял кое-какие детали. Но по ним так ничего и не определили…
– Но какую-то версию все-таки выдвинули?
– Версий было много. Американские газеты писали про «тайную войну подводных лодок», мол, его, «Трешер», подстерегли и всадили торпеду. Но это чушь, и они сами это признали. Возможно, кто-то из личного состава ошибся, и они пролетели предельную глубину. Но скорее всего, в сварных соединениях были микротрещины. Очень спешили в море, не провели дефектоскопию… Ладно, Сергеич, пойду посижу на спине, послушаю шумы моря через подушку… О, чуть не забыл! Подушкин наш, бригадный Штирлиц, – знаешь?
– Нет.
– Высокий такой – полтора Ивана, особист бригадный, просил передать тебе, чтобы при первой возможности зашел в особый отдел эскадры. Это на Лунина, пять.
– С чего бы это?
– Да не бери в голову. Скорее всего, пытать будут насчет торпеды – как и почему оборвался трос. Меня уже опросили… Ну давай, спокойной ночи!
Я тоже раскатываю тюфяк, застилаю диванчик простыней и укладываюсь между стальной боковиной стола-сейфа и бочечным сводом правого борта. Подводная лодка вздрагивает от шквальных порывов, будто лошадь от ударов хлыста. Поскрипывает дерево обшивки. Покачивает. Я лежу как в колыбели. Лишь одна мысль отравляет душевный покой: «Зачем вызывают в особый отдел?»
На языке вертятся слова из шуточной весляровской песни: «Наутро вызывают в особенный отдел: “Что же ты, подлюга, в лодке не сгорел?!”»
И все-таки – зачем? Насчет торпеды? А если нет? А если еще что-то?
Жить с этим неотвязным вопросом – все равно что под дулом пистолета ходить.
5. Башилов
…А наутро ударили весенние морозы. Буря стихла. Море затянуло летучим паром, будто рваное облако расстелилось по заливу. В одной из проредей мелькнула усатая голова то ли нерпы, то ли тюленя.
Торпедный кран медленно катится по рельсам причала. Промерзший металл визжит и хрустит, словно битое стекло под катком.
Рубка изнутри обсахарена инеем. Торпедоболванка на пирсе серебристо-пушистая и похожа на елочную хлопушку. Вахтенный у трапа греется в клубах пара, бьющего из дырявой трубы под причальным настилом. Морозно. Брр…
Команды подводных лодок вышли на расчистку снежных заносов. «Объект внешней приборки», закрепленный за нашим экипажем, – многомаршевый деревянный трап, ведущий на вершину пологой с берега, но крутой с моря сопки. На картах она именуется «гора Вестник», и это весьма точно определяет роль высоты в жизни подплава. С ее голой вершины идут в штаб вести о штормах и циклонах, летящих к Северодару. Казалось, именно там находится главный диспетчерский пункт, по приказам которого все эти бураны, шквалы, вьюги отправляются по своим маршрутам.
Лестницу так замело, что она превратилась в скат многоярусного трамплина. Матросы скалывают «карандашами» – корабельными ломами – лед со ступенек. Сбоку, у перил, я замечаю чьи-то узкие следы. Они не могли быть оставлены ни разлапистыми матросскими «прогарами», ни офицерскими ботинками. Это был женский след, след Королевы, и он вел в рубленый домик музыкальной школы. При одной только мысли, что я могу сейчас ее увидеть, сердце забилось резкими клевками. Шапка стала тесной и жаркой… Я стащил ее, потом надел… Поглядел по сторонам: ближайший ко мне матрос – Данилов, длинный худой москвич, – равнодушно долбил лед, никто на меня не смотрит.
Я поднимаюсь по трапу, и дома, корабли, люди становятся все меньше, все мельче… Зато открылись вершины дальних сопок и кручи островов. Базальт бугрился округлыми вспучинами, и видно было, что лестница взбиралась по застывшему в яростном бурлении каменному вареву древнего вулкана. Лунный ландшафт сопки состоял сплошь из наплывов, складок, впадин, точно вокруг были свалены скульптуры неких гигантских тел, и они полусплавились так, что округлости одного перетекали во впадины другого.
Посреди первозданного хаоса стоял бывший храм Николы Морского с сетью антенн, заброшенных в невидимый океан эфира. Но и храм этот был повержен, ибо вопреки христианским канонам в алтаре его, хоть и бывшем, волхвовала живая богиня.
Отсюда, с вершины Вестника, зимнее море в белой кайме припая открывалось широко и плоско – до самого горизонта, пушисто размытого дымкой. Его не заслоняли ни скалы, ни острова, ни извивы фиорда. Пожалуй, только отсюда и виден был тот синий мир, в толще которого жили рукотворные рыбины – наши странные корабли.
Лодка Медведева с белыми цифрами «105» на рубке вытянулась под горой во всю свою змеиную длину. За ее острым черным хвостом оставался бело-зеленый след взбитой винтами воды. Сто пятая уходила в автономку.
На мостике торчали три головы в зимних кожаных шапках: Медведева, его старпома и боцмана у сигнального прожектора. Потом появилась еще одна, и что-то блеснуло над перископной тумбой. Присмотревшись, я узнал «колокольчик» – выносной динамик громкоговорителя. «Колокольчик» направили раструбом на нас, то есть на гору Вестник, и вдруг на всю гавань грянуло удалое руслановское:
Живет моя отрада
В высоком терему.
А в терем тот высокий
Нет входа никому!
Людмила поигрывала уголком шали. Королева Северодара слушала серенаду. Жаль, что магнитофонную…
Песня металась в гранитной теснине, разбивалась на эхо, так что в домик долетало и «отрада», и «никому» – сразу. С рейдового поста замигал прожектор. Людмилин помощник, оторвавшись от метеокарты, читал семафор по слогам: «Ко-ман-диру ПЛ. Что за ре-сто-ран “Поп-ла-вок”. Вопрос. Объявляю выговор. Контр-адмирал Ожгибесов».
Медведев отсемафорил: «Вас понял. Благодарю за пожелание счастливого плавания. Командир ПЛ».
Так уходила сто пятая…
Я был уверен, что от такой серенады растает сердце любой женщины. Но Королева вдруг разозлилась.
– Ага! – повернулась она ко мне. – Так это по вашей милости я летела сегодня с лестницы?! Вы знаете, что я из-за вас колготки порвала?!
– Запишите их на наш лицевой счет! – попробовал я отшутиться. Но женщины меньше всего склонны потешаться над порванными чулками.
– Вас бы по этой лестнице спустить! За зиму ваши матросы могли хоть раз здесь появиться?!
Как хорошо, что я не успел сказать, что у матросов были более важные дела, чем скалывать лед со ступенек.
– Еще раз так запустите лестницу – буду звонить командиру эскадры!
Я пообещал, что гидрометеослужбе не придется обременять адмирала подобными просьбами, и ушел, гордо расправив плечи. Но едва я спустился на злополучный трап, как поскользнулся и лихо проехал по забитым снегом ступенькам. Вскочил, отряхнулся… Кажется, никто не заметил.
Боже, скорей бы в море! Если только выпустят особисты. Зачем я им?
И тут я понял, в чем дело! Косырев!
Бригадный пропагандист. «Пропаганец». Вынюхал и заложил.
За полчаса до конца политзанятий я всегда объявлял матросам:
– А теперь всем писать письма! – И раздавал бумагу, чтобы не драли листы из конспектов.
У матроса-подводника на базе почти нет свободного времени. Письма домой пишут редко, урывками. Почта работает преотвратно, так что многие родители месяцами не получают весточек от пропавших на северах сыновей. Абатуров передал мне уже несколько тревожных запросов: «Где мой сын? Почему от него нет писем?»
Пусть лучше они пишут письма, чем выводят под запись липовые цифры грандиозных планов. Я понимаю, что для нашего начпо (у него на эскадре две клички – НачЧМО и Папа-Гестапо) это чудовищная крамола. Но тут никто из матросов меня не заложит.
Всякий раз, когда я вынужден талдычить им об успехах нашей промышленности и сельского хозяйства, меня прошибает тихий стыд. Кому я вешаю лапшу на уши – этим ребятам, которые во сто крат лучше меня знают, что творится в их разоренных деревнях, в их рабочих трущобах? Это им-то, наглотавшимся чернобыльской пыли и такой же радиоактивной кыштымской водицы, детям спившихся родителей, я должен втолковывать про преимущества социалистического образа жизни?
Мне стыдно.
Я окончил Московский университет. В его стенах учились Лермонтов и Полежаев… Мне стыдно нести всю эту околесицу и всю эту самозабвенную ложь, которой меня усердно пичкают со страниц главпуровских пособий и разработок.