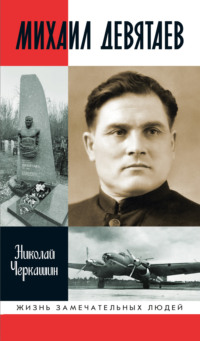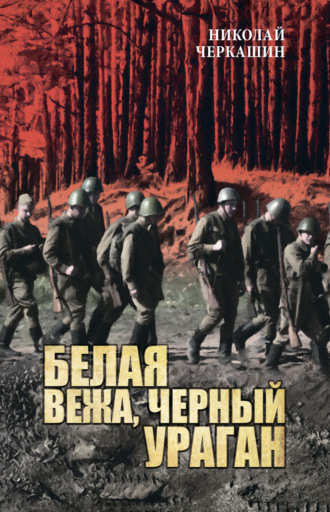
Белая вежа, черный ураган

Николай Черкашин
Белая вежа, черный ураган
© Черкашин Н.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
* * *Сестре Ларисе Черкашиной, пушкинистке из Волковыска
…Есть что изучать по поводу периода 1941 года, и не один год, мы приоткрыли всего лишь ма-а-аленький край листа истории, осилить бы весь лист…
Дм. Егоров, историкВместо вступления
…Нехитрое дело – на войне доставить термосы с горячей гречневой кашей от полевой кухни до расположения роты. Ездовой красноармеец Жилкин, он же для молодых бойцов – дядя Егор, уложил в бричку-двуколку термос с борщом, термос с кашей, прикрыл соломой да еще прицепил отремонтированную пушчонку-сорокопятку, которую попросили срочно доставить в полковую батарею. Нехитрое дело… Но на войне любое нехитрое дело может обернуться потом-кровью. Вот и на дядю Егора, весьма немолодого бойца-ездового свалилось прямо с небес жестокое испытание. Едва он выехал на шоссейку, как откуда ни возьмись появился немецкий самолет.
Прыгать в кювет было уже поздно. Лошади неслись во всю прыть, и пушчонка-сорокопятка подскакивала выше передка.
Дядя Егор, нахлобучив на уши пилотку, пригнувшись, как чапаевец на тачанке, с тоской вслушивался в нарастающий рев «мессершмитта». Еще несколько секунд – свист бомбы, взрыв, смерть…
– Пречистая Богородица, помилуй мя, грешного…Ах, вы несыти, клячи ползучие! Мать вашу в лоб и по лбу!.. – нахлестывал коней старый солдат и до слез жалел себя, семью свою, которая вот-вот останется без кормильца…
Обер-лейтенант Шелике бросил истребитель в пике. Шоссе и артиллерийская упряжка с ездовым, вытянувшимся вместе с лошадьми в едином порыве, стремительно приближались.
Шли последние мгновения чужой жизни.
Он поймал упряжку в коллиматорный прицел и перевел палец на гашетку… На его фаланге блеснул алмазный перстень-талисман, тот самый, что подарила ему на выпуск из училища бабушка, бывшая фрейлина при дворе Вильгельма II, получившая перстень в знак особой милости от министра финансов Восточной Пруссии, большого знатока женских бюстов и старинных бриллиантов, который любил на досуге постоять за гранильным станком и сам обточил этот камень по огранке мальтийских рыцарей, чьи мастера, перед тем как начать шлифовку, погружали алмаз на сутки в жертвенную кровь…
Обер-лейтенант Шелике знал, когда нажать на гашетку. Он помнил формулу на упреждение, абсолютно непогрешимую, выведенную его дядей – профессором-математиком Кельнского университета – громоздкую, неудобную, практически бесполезную, но точную ради самой точности, где L – дистанция, V – скорость самолета, W – скорость цели, ε – угол атаки, Q – коэффициент вибрации, 3 – сила ветра в баллах по Бофорту, ψ – поправка на чуть заметную дрожь руки, которую вызывает пульсирующая в жилах кровь…
Но больше всего обер-лейтенант Шелике надеялся на свою интуицию – мистическую непознаваемую способность человеческого духа, которая в учении Фридриха Шеллинга – именитого родоначальника Шелике – предстает как эфемерный флюид, то есть низшей субстанцией божественного провидения, и как все флюиды, интуиция проходит сквозь оболочку души, воздействуя на разум и волю, очищенные катарсисом, и уже затем проникает в кровь…
Все четыре пулемета ударили разом – четыре огненные струи вспороли полотно дороги…
Кровь брызнула в лицо Жилкину, горячая конская кровь, из разорванной бедренной жилы, которую рассекла большая щепка от дышла, в которое угодила пуля, единственная пуля, попавшая в упряжку. Но жеребец продолжал мчаться как ни в чем не бывало. Красноармеец Жилкин погрозил кулаком, улетавшему самолету с черными тевтонскими крестами на крыльях и засмеялся:
– А все-таки мы живы! Итить твою мать с перебором!!!
А термосы с едой не пострадали, как и уцелела пушчонка-сорокопятка…
* * *Красноармеец Жилкин бежал вместе с остатками взвода к спасительному лесу. Бежал, чтобы укрыться и спастись от бивших с неба самолетов.
Из всех смертей – мгновенная, пожалуй, всех нелепей.Совсем немилосерден ее обманный вид:Как топором по темени – шальной осколок влепит,И ты убит – не ведая, что ты уже убит.Жилкин, пока еще не убитый, бежал, прикрыв темя широкой крестьянской ладонью – как будто он мог спасти голову от летящих пуль и осколков. Бежал, повторяя одну и ту же молитву: «Господи, спаси люди твоя!..» А рядом падали люди из его родного второго взвода.
Оборвалось дыхание на полувздохе. Фраза,На полуслове всхлипнув, в гортани запеклась;Неуловимо быстро – без перехода, сразу —Мутнеют, оплывая, белки открытых глаз.Деревенский житель Жилкин никогда прежде не видел самолетов. Разве что на картинках да несколько раз в кино. Он никогда не видел так близко ни одного самолета, как сейчас. Бешеные беспощадные стальные птицы не просто пролетали над головой, а мчались именно за ним, за его сотоварищами, которые бежали рядом, и впереди, и позади с одной лишь мыслью – поскорее нырнуть в спасительную сень леса. Но хищные птицы с яростным ревом догоняли-обгоняли их и под грозный клекот пулеметов вколачивали в землю большие пули, пришивая насмерть к ней тех, кто не успел увернуться… 222-й стрелковый полк.
И не успеть теперь уже, собрав сознанья крохи,Понять, что умираешь, что жизнь твоя прошла,И не шепнуть, вздохнувши в последний раз глубокоВсему, с чем расстаешься, солдатское «прощай»…[1]Порой «юнкерсы» пролетали так низко, что застили свет и обдавали его горячим ветром и запахом сгоревшего бензина.
«Господи, спаси и сохрани!» – взывал к небу Жилкин. И Господь его услышал и даровал ему спасение. Жилкин ворвался в чапыжник на опушке и залег под кривой перекрученной сосной…
Спасен! Слава тебе, Господи! Над головой спасительный зеленый полог. Никто его теперь не высмотрит и не выцелит.
Наконец «юнкерсы» улетели, и командир второго взвода лейтенант Черкашин закричал что было сил:
– Второй взвод – ко мне!
И Жилкин вспомнил, что он из второго взвода и ринулся к лейтенанту, который должен знать и сказать, что сейчас делать и куда идти. Все они – кто в пилотках, кто в касках, кто на голую голову сгрудились возле взводного. Провели перекличку.
– Дударенок!
– Я.
– Козлович!
– Я.
– Жилкин!
– Я.
– Пономарев!
– Убит.
– Иголкин!
– Убит.
– Быховцев!
– Я.
– Рашкович!
– Убит.
– Пиотровский!
– Я.
– Муртазов!
– Убит…
От всего их взвода в тридцать душ осталось после боев на границе, если не считать командира, всего восемь человек: Жилкин, помкомвзвода старший сержант Дударенок, пулеметчик Козлович, снайпер Бесфамильный, стрелок Быховцев, два брата-узбека Рашид и Мурад Тузлукбашиевы, стрелок Пиотровский…
– За мной! – скомандовал Черкашин, и вся горстка бойцов двинулась за лейтенантом. Шли недолго – до ближайшего ручейка.
– Привести себя в порядок. Я – в роту. За меня – старший сержант Дударенок. – Напившись воды, Черкашин ушел по просеке искать начальство, а Жилкин и все другие жадно припали к ручейку. От родниковой воды ломило зубы, но с каждым таким глотком в тела, измученные двумя бессоными ночами, почти беспрерывными атаками немцев, воздушным разбоем «юнкерсов» возвращалась жизнь и сила. И вера: уж теперь-то все будет хорошо, уж теперь-то спасены, уж теперь-то дойдем до своих… У кого были фляжки, те наполняли их водой по горловины. У кого не было – умывались живой водой, смывая сонную одурь, смертельную усталость, только что пережитый страх перед карой с небес.
У Жилкина фляжка была цела, и он притопил ее в ручейке, а потом вытащил ее, мокрую и тяжелую. С водой! А тут еще Козлович принес откуда-то пилотку, наполненную медом.
И словно в награду за пережитый ужас и преодоленные тяготы был для них этот райский вкус…
Широколиственный лес великодушно призревал их, обреченных берлинской властью на смерть.
Часть первая. «Сорок девятая, врагами клятая…»
Глава первая. Волковыск-на-Росси
Древний городок на неширокой Росси утопал в сиренях и жасмине. По вечерам в сиреневых туманах гудели майские жуки, облетывая сады, рощи и прочие райские кущи. Пышные гроздья и белые соцветия свешивались через ограды палисадников, через кованую решетку вокруг церкви Святого Николая и просто покачивались на ветру во всех дворах, проулках и садах, на кладбищенских оградках. Утопал в сиренях вокзальчик – в стиле польского барокко: они же, эти скромные загадочно-колдовские цветы, преображали корпуса старинных краснокирпичных казарм неподалеку, где располагались теперь не конные стрельцы Войска польского, а красные конники 6-й кавалерийской дивизии РККА.
У кобыл еще не кончилась течка, и потому в полковых конюшнях было неспокойно и шумно: жеребцы били копытами в полы денников, кобылы призывно ржали – заливисто и с особой дрожью в голосе. Середина июня – это пик эструса[2], разгар охоты, недолгое, но жаркое время конской любви. И хотя опытные всадники предпочитали буйным игривым жеребцам спокойных, тихих меринов, не нарушавших в походах звукомаскировку, тем не менее жеребцов в волковысских казармах было немало: только что провели ремонт – и в полки прибыло молодое конское пополнение. А кастрационная кампания запоздала по вине начальника ветеринарной службы полка, ветврача 3-го ранга Колышкина, который сейчас держал ответ перед командиром дивизии генералом Никитиным:
– Вы ставите боевую готовность своего полка под угрозу! Ржание на походе – куда ни шло. Но в разведке, в дозоре, в секрете это недопустимо! … Да что я вам азбучные истины читаю. Вы опытный конник, десять лет в строю и позволяете себе такое попустительство! Июль на носу, а у вас еще случный период тянется!
– Товарищ командир, разрешите дать пояснения!
– Давайте!
– Наш главный специалист по конским органам ветфельдшер Ватников был арестован спецорганами и находится под следствием.
– И опять ваша вина – просмотрели врага народа, пока бдительные товарищи вам не подсказали.
– Я готов поручиться за него. Враг народа не может так качественно и так быстро кастрировать жеребцов. Верните его нам хотя бы на операционный период.
Никитин долго ходил по кабинету и, всякий раз проходя мимо ветврача, бросал на него быстрые взгляды, изучая бесстрастное лицо Колышкина.
– Хорошо! – изрек он наконец. – Сделаю все возможное, чтобы вернуть вам специалиста. Хотя бы на время… И очень надеюсь, что вы закроете кампанию в кратчайшие сроки!
* * *Тем временем друг ветфельдшера Ватникова и лучший наездник полка старшина Незнамов гонял на корде Дикаря – кабардинского скакуна великолепных статей. Дикарь полностью оправдывал свою кличку: дикарь, и все тут. Еще ни одному полковому всаднику, даже мастеру спорта командиру 1-го сабельного эскадрона капитану Кудинову, не удалось проехать на нем в седле хотя бы круг.
Незнамов гонял Дикаря до тех пор, пока тот, по его мнению, не сбросил «дурную силу», и только потом с помощью трех бойцов, которые держали строптивца с двух сторон, водрузил на него облегченное спортивное седло. Потом, не спуская стремян, вскочил в седло прямо с земли и заплясал, завертелся на Дикаре, как заправский ковбой. Жеребец изгибался, пытаясь цапнуть зубами коленку всадника, но старшина быстро осаживал его и гнал вперед, не жалея шенкелей.
Вокруг кордовой площадки собрались праздные зрители, некоторые даже делали ставки на пачку «Казбека» (самые ходовые в дивизии папиросы) или даже на новенькие шпоры. Но Дикарь все же сбросил Незнамова, и тот, матерясь и обещая строптивцу веселую жизнь, увел его в денник. Сегодня вечером Незнамову предстояло заветное свидание на берегу Росси с Альбиной, белошвейкой военторговского ателье, и старшина не хотел предстать перед голубыми глазами подруги увечным воином – хромоногим или кривобоким. Он надеялся, что дурная примета (утром положил на койку фуражку) воздействует только на его выездку и никак не омрачит вечернюю встречу. Старшина Незнамов, как и большинство джигитовщиков, был суеверен. Он, например, полагал, что конь, наступивший в лесу на волчий след, обязательно вскоре захромает. А от дурного сглаза оберегался тем, что обвязывал левое запястье конским волосом, вырванным из хвоста своего коня. Комиссар полка не раз высмеивал его, кандидата в члены ВКП(б), за это «мещанское мракобесие», но Незнамов оставался верен дедовским приметам. Так, чтобы поднять загрустившему коню настроение, вернуть ему вкус к жизни, он всегда кидал на дно поильного ведра медный пятак. И уверял всех, что это весьма действенное средство и что так делал его дед (по материнской линии) Степан Афанасьевич Гречишкин, кубанский казак, полный георгиевский кавалер по русско-турецкой войне невесть какого счета… Дед делился с внуком не только секретами конного дела, но и рассказывал под добрую чарку и хорошее настроение про своего деда. Рассказывал почему-то полушепотом, но всегда с горделивым блеском в глазах – про сотника станицы Тифлисская Андрея Гречишкина. Много позже Антон прочитал в старом журнале «Нива» про подвиг своего пращура.
Очерк назывался «Лошадиный редут». Дело было так:
«Утром 15 сентября 1829 года реку Кубань пересекла неполная казачья сотня – 62 человека из станиц Тифлисской и Казанской – во главе с сотником Андреем Леонтьевичем Гречишкиным. Отряду было поручено исследовать левый берег Кубани возле места под названием Волчьи ворота, откуда, по данным разведки, горцы при поддержке Турции планировали атаковать казачьи станицы. Чтобы рассеять внимание казаков, они осуществляли вылазки мелкими группами в разных местах. Необходимо было выяснить, где они собирали основные силы. В середине дня перед Волчьими воротами казаки встретили отряд Джембулата Айтекова, во много раз превышающий численностью неполную сотню Гречишкина…» Отряд абреков-головорезов шел на родную станицу – на Тифлисскую. И его надо было остановить во чтобы то ни стало. И молодой сотник, понимая, что это будет последний бой, придумал небывалое. Он велел казакам спешиться, стать полукруглом и убить своих коней кинжалами. Обливаясь слезами, казаки сделали все так, как приказал сотник, первым заколовший своего гнедого красавца. Тела коней выложили полукругом, как редут и встали, вскинув ружья. Расчет сотника оказался верным. Кони врагов, чуя своих мертвых собратьев, вставали на дыбы, сбивая атаку и подставляя своих всадников под ружейный выстрел…
Держались долго. Но полегли все, прикрыв путь на родную станицу. Под перезвон колоколов казаки несли на плечах девятнадцать гробов во главе с порубанным сотником. Убиенных сопровождал конный взвод с обнаженными шашками… Казаков похоронили в братской могиле в центре станицы, а сотника Андрея Гречишкина и двух урядников – в отдельных могилах тут же. На братский холм поставили пушку. Антон помнил, как дед водил его мальцом к этой могиле. Тогда ему была интересна только пушка. Он залезал на нее и смотрел в широкое дуло. В 1934 году пушку увезли в Кропоткин – к местному музею. А часовню и братскую могилу взорвали. «Расказачили» станицу…
* * *Старшина Антон Незнамов как сверхсрочник жил не в военном городке, а в самом Волковыске – на частной квартире. Собственно, ту комнату, которую он снимал у настоятеля городского храма Святителя Николая отца Феофилакта, квартирой и не назовешь: обыкновенная комната с круглой чугунной печкой посередке и двумя окнами в сад. И утварь незамысловатая – кровать, стол, две табуретки, скрипучее кресло-качалка, резной дубовый шкаф. В правом углу, как положено, стояла на треугольной полочке икона с ликом Николая-чудотворца. Незнамов как кандидат в члены ВКП(б) хотел поначалу икону снять. Но при здравом размышлении решил ее оставить. В конце концов, никого из сослуживцев, равно как и из особ женского пола, в свое жилище он не приглашал и приглашать не собирался. Даже прекрасную Альбину, у которой была своя городская хата, хоть и крытая дранкой, но с весьма крепким срубом. В том доме она жила с младшей сестрой Христиной, осиротев в одночасье перед приходом в Волковыск Красной Армии.
Батюшка Феофилакт – полноватый русовласый литвин – был весьма приветлив, и на столе у Незнамова к полудню появлялось блюдо то с садовой черешней, то со спелыми грушами, то со сладкими яблоками каштелями. Матушка – такая же корпулентная, как и настоятель, – не обносила постояльца блинами и драниками, которые пекла в саду на летней дровяной плите.
Однажды батюшка принес в пристройку черную тарелку – радиорепродуктор и включил его в розетку – тут же полилась приятная музыка.
– Вот, от прежнего жильца осталась. Может, вам сгодится новости слушать?
– Сгодится! – одобрил старшина. В самом деле, это было очень удобно – приходить на политинформации, окунувшись в последние московские известия. Зачет всегда обеспечен!
Надраив хромовые сапоги, одернувши гимнастерку со старшинской «пилой» в васильковых – кавалерийских – петлицах, сбив на затылок синеоколышную фуражку, Незнамов отправился в точку встречи – на мостик через Россь.
Глава вторая. Дворец «Александрия»
Майский сиреневый пожар полыхал и в других приграничных городках – в том же Высоко-Литовске, что на речке Пульва. И здесь между церковью и костелом, между заброшенным австрийским кладбищем и синагогой носились, гудя, все те же майские жуки, украшенные зубчатым узором по белым брюшкам. И здесь уже по городским взгорьям мела одуванчиковая метель. И здесь почти все было так же, как в Волковыске: стояли аисты в гнездах на столбах и коньках, осеняли путника распятия на перекрестках, а камни-валуны, стянутые с полей на опушки и обочины, огораживали церковь и костел; и конечно же речка Россь ничем не отличалась от речки Пульвы. Разве что чуть быстрее бежали ее темно-зеленые воды, разве что кое-где разливалась пошире, да в лучшие годы несла на себе торговые суда и баржи. По Пульве в стародавние времена доставляли во дворец Потоцких бочки с вином. Сам дворец стоял на холме. Он и по сию пору там стоит. Но тогда, в 1940 году, там обосновался полковник Васильцов со своим штабом – мозговым центром 49-й стрелковой дивизии.
Новый комдив был немолод – 48 лет. Но успел послужить и на флоте, и в кавалерии, и в пехоте. Сюда, на самый западный край страны советов он попал волею казенного случая. Он просился отправить его на Дальний Восток или Крайний Север, а кадровики (смысл их назначений порой ведает только Господь) отправили его на Крайний Запад СССР – в старинный городок Высоко-Литовск, вчерашний польский поветовый центр, а ныне советский райцентр. В несбывшемся желании Васильцова таился особый смысл. И вот какой…
В тревожном 1938 году спокойной, налаженной жизни подполковника Васильцова, преподавателя тактики в Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе, пришел конец. После первой волны арестов в Академии в 37-м году надвигалась новая, вторая. Константин Федорович стал готовиться к неизбежному. «Замести» его должны были хотя бы по одной причине – как бывшего офицера царского флота. В чине прапорщика по Адмиралтейству он пробыл всего трое суток. Тогда, за два дня до большевистского переворота, чертежник отдела кораблестроения Генерального морского штаба матрос-охотник Васильцов был произведен приказом командующего Балтийским флотом в первый офицерский чин – в прапорщики по Адмиралтейству. Васильцов даже не успел приобрести золотые погоны со звездочкой посреди красного просвета. Он узнал об этом в Крыму, где находился на излечении от туберкулеза. В советское время он ни в каких анкетах не упоминал об этом военно-юридическом казусе. Писал – «служил матросом Балтийского флота». И это весьма возвышало его в глазах строгих пролетарских кадровиков. И вот теперь, если кто-то из них поднял книги приказов за октябрь 1917 года, он вполне мог обнаружить тот роковой приказ. И никакие иные заслуги Васильцова в рядах Красной Армии (бои с белоказаками под Уральском, бои с войсками генерала Деникина под Астраханью или бои с азербайджанскими муссавитистами в Муганской степи), ничто из этого не могло отвести от него убийственный вопрос: «Почему вы скрывали в своих анкетах принадлежность к офицерскому корпусу царского флота?»
Почему?
В самом деле – почему? Васильцов ответил бы: да потому что я никогда не носил офицерских погон и всю «империалистическую» войну прослужил чертежником-кораблестроителем». Но это было слабым оправданием, он понимал это и готовился к аресту: сжег все письма от друзей-однополчан, отправил жену с сыном в Ленинград, где у Зои была большая родительская квартира на Нарвской заставе, собрал «тюремный чемоданчик» со сменой белья, бритвенными принадлежностями и большим пакетом ржаных сухарей, томиком Лермонтова… Он очень смутно представлял себе, что может разрешить взять с собой тюремное начальство. Но, по великому счастью, брать с собой ничего не пришлось. Бывший однополчанин по боям в Ленкораньском уезде, а ныне замначальника кадрового отдела Академии майор Иван Павлович Харитонов дал ему бесценный совет: «А знаешь что, Федорыч, переводись-ка ты поскорее в войска, неровен час и тебя загребут. Просись подальше. Потом, когда все утихнет, вернешься, да еще со строевым цензом».
И ведь спас Харитонов, здоровья ему немеренного! Никто из армейских кадровиков не усмотрел ничего подозрительного в том, что преподаватель кафедры тактики решил поднабраться современного военного опыта в войсках. Даже похвалили его за это в академической многотиражке. И полковнику Васильцову дали сразу дивизию. Сорок девятую стрелковую, родом из Костромы, стоявшую ныне на самых западных рубежах – севернее Бреста, на реке Пульва, в округе знаменитой Беловежской Пущи.
На все про все, на врастание в свое командирство, изуче-ние личного состава, а также театра военных действий судьба отпустила ему немного, но и немало – одиннадцать месяцев. (Его командарму генералу Коробкову она дала всего один месяц.) За этот небольшой срок Васильцов успел вникнуть в суть своей новой службы и кое-что сделать для повышения боеготовности 49-й. Он никогда не видел свою дивизию в целостном виде – так, чтобы все пять полков – три стрелковых и два артиллерийских – собрались бы вместе, стояли бы в одном строю. Да этого и не требовалось. Дивизия была рассредоточена в довольно пространном районе: с запада местечко Семятыче, с севера – железнодорожная станция Черемха, с востока – восточной окраиной Высоко-Литовска и селом Малые Зводы, с юга – приграничными укреплениями вдоль Буга. Вот на них-то – на железобетонные доты новой оборонительной линии – и была вся надежда. Эти бункеры должны были стоять, словно столбы в крепостной стене, а васильцовские полки – полевое заполнение – служили как бы куртинами этой стены. Однако все это мощное защитное заграждение еще только создавалось. «Столбы», то есть доты, пребывали в незавершенном состоянии, дивизия была готова заполнить пространство между ними, между опорными пунктами и районами, но костяк обороны Западного фронта готов еще не был, несмотря на все понукания из Москвы и Минска.
Васильцов доносил своему начальству: численность дивизии составляет 11 690 человек (при штате военного времени 14 483 человека). Вооружением, боеприпасами, танками и бронеавтомобилями дивизия была в основном укомплектована; штатный гужевой транспорт в полном наличии, нехватка автотранспорта – 25 %.
К началу боевых действий на строительстве укреплений непосредственно по границе находились два батальона – 212-го и 222-го стрелковых полков. 15-й стрелковый полк располагался в основном в Высоко-Литовске, 212-й полк – на станции Нурец, 222-й – в Черемхе. С началом войны дивизия должна была занять и защищать рубеж Брестского УРа в районе Высоко-Литовска по границе от Нура до Дрохичина – а это 24 километра. Многовато для одной дивизии… Для нападавшей на сорок девятую 134-й немецкой пехотной дивизии фронт наступления составлял всего пять километров.
Правда, ей предстояло форсировать Западный Буг в районе деревни Новосёлки, но преодоление водной преграды немцев не пугало…
* * *После Москвы, после столичной суеты, трамвайного лязга, воя подземных поездов, после толп на центральных площадях и улицах, острых локтей в вагонной давке, какофонии автомобильных гудков, после жаркого воздуха, настоянного на асфальтовой вони и выхлопных газов, Высоко-Литовск казался курортным городком, где каждый второй житель – прирожденный лекарь, фельдшер или сестра милосердия, которые своей неспешной, размеренной жизнью учат сумасшедших московитов и питерцев, как надо ходить по тротуарам, пить пиво, общаться друг с другом, наслаждаться житейскими радостями. Там, в столице, возникало ощущение, что жизнь – это мучительная спешка. Здесь же, на краю страны и Брестской области, стоило только отвлечься от служебных дел, как жизнь становилась тихим наслаждением.
Здесь, в Высоко-Литовске, вдали от больших командиров (они оставалось в Бресте и Кобрине) полковник Васильцов был старшим воинским начальником и начальником гарнизона. И это тоже снимало уровень напряженности.