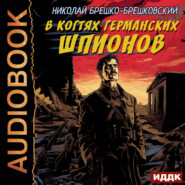По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Когда рушатся троны…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ганди подошел к телефону.
38. В городе и во дворце
Раз только представляется удобный случай унизить буржуазию и как-нибудь по-новому еще поиздеваться над ней, ради этого удовольствия большевики готовы пожертвовать даже насущными интересами своими.
Так было и в данном случае.
Ганди-Дворецкий, с чисто обезьяньей повадкой перенимавший все трюки и гримасы сановных горилл русской Совдепии, как бездарный и тупой красный чиновник, хотел повторения в малом масштабе того, что в более крупном проделал в Петрограде его недосягаемый идеал Бронштейн-Троцкий в дни похода Юденича на Петроград. Как тогда в Петрограде, так теперь в Бокате Дворецкому казалось адски эффектным согнать всю буржуазию и всех арестованных белогвардейцев на работы по рытью окопов. Гораздо полезней для дела, казалось, было бы снять с позиции две роты солдат, сильных, привычных к тяжелой работе, чтобы под наблюдением саперных офицеров они изрезали столицу сетью окопов, если так уж очень хотелось этого великому стратегу Максу Дворецкому-Ганди.
Но что такое солдаты с кирками и лопатами? Кто на них обратит внимание? Кого ударишь этим по воображению? Где здесь революционная политика? Совсем другое впечатление, когда за лопаты и кирки возьмутся жены и вдовы офицеров, депутатов, профессоров и сами офицеры, депутаты, профессора.
Не успел всесильный сморчок с желтыми зубами распорядиться по телефону, как через четверть часа уже по всему городу начались облавы. Чекисты и комиссары выволакивали из трамвайных вагонов мужчин, дам, подростков, хватали прохожих с криками, побоями и бранью, сгоняя в разные пункты города большие толпы, охваченные паникой, оторванные от дела, от дома и от семьи… К этим же пунктам сходились узники и узницы, выведенные под конвоем из тюрем. Бледные особой желтовато-восковой тюремной бледностью, месяцами томившиеся в духоте и вони, люди пьянели на свежем воздухе, слабея, испытывая головокружение и приступы голода, особенно мучительные после прогулки под открытым небом. Несчастные озирались, как выпущенные из клетки звери. Все было так ново, – и городской шум, и перспективы улиц, и ощущение под ногами панелей и асфальта, вместо грязных, заплеванных полов общих и одиночных камер. Главное же – новые лица, новые, хотя было много знакомых, ставших такими интересными после примелькавшихся компаньонов по заключению и опротивевших тюремщиков и чекистов.
Оказалось, что на воле не было ни одного инженера. Всех инженеров, понадобившихся пролетарскому отечеству, дали чрезвычайки и тюрьмы. Таких набралось человек пятнадцать. Их выделили в одну группу. К ним подошел Рангья, красный министр путей сообщения, одетый в фантастическую форму с большим револьвером на животе.
Презрительно глядя на отощавших, бледных инженеров из-под своих набухших век, Рангья обратился к ним:
– Я знаю, что все вы злостные контрреволюционеры и саботажники! Но вы должны быть полезны как специалисты и своими знаниями послужить революции. Займитесь окопными работами. Если вы будете добросовестны, вы получите амнистию. Если же вы и теперь будете продолжать злонамеренный саботаж, тем хуже для вас! Мы беспощадно расправляемся с врагами народа.
Кончив, повернулся спиной к «злонамеренным саботажникам», самодовольно поглаживая рукой в перчатке свои накрашенные усы.
Буржуазия битых два часа томилась, пока доставили лопаты и кирки. Да и этих орудий хватило едва ли на одну десятую запуганного человеческого стада.
Инженеры изо всех сил притворялись, что и в самом деле планируют окопы, и с озабоченным видом махали ослабевшими, прозрачными руками, чертили по воздуху какие-то линии.
Прыщавый молодой офицер из красных курсантов, грозя инженерам казацкой, совсем не демократической нагайкой, исступленно выкрикивал какие-то угрозы. Больше для успокоения своей красной совести. Ибо сам ни черта не понимал в этой неразберихе.
Какие окопы, где окопы, зачем окопы?
Тем более, это был столь же неблагодарный, сколь и титанический труд. Привычные саперные команды, – и тех прохватил бы седьмой пот, что же говорить об этих барышнях, гимназистах, дамах, профессорах, художниках, одряхлевших, трясущихся вместе со своими фесками купцах-мусульманах, которые тяжелыми кирками должны были дробить асфальт и выковыривать из мостовой камни, чтобы потом уже заняться рытьем окопов.
Так в этом никчемном ковырянии, в бессмысленном топтании на месте прошел весь день. Чекисты, злые, свирепые и без того, свирепели еще больше от сознания близкой, подкатывающейся опасности. Им бы удрать охота, спасая вместе с головой награбленное, а тут, не угодно ли, укрепляй рабоче-крестьянскую столицу. И они вымещали свою злобу на бесправных, беззащитных рабах и рабынях. Чуть кто зазевался или даже не так посмотрел, – обжигающий удар нагайкой по лицу, по голове, по плечам. Женщин эти мерзавцы норовили ударить ниже спины, чтобы вместе ударить и по стыдливости, больней оскорбить…
Но как ни было запугано все это буржуазное быдло, паника улеглась понемногу, и к вечеру как-то незаметно приподнялось у всех настроение.
Эти дурацкие окопы, плюс еще расклеенное повсюду воззвание, – лучший показатель, что пролетарское отечество по всем швам трещит… Выгнанная на работу интеллигенция, при всей забитости своей, не могла скрыть овладевших ею надежд. Блестели глаза, и даже бледные, истощенные лица вспыхивали румянцем. Боялись говорить, перешептываться, боялись перекинуться несколькими словами по-французски. И в этом не было необходимости. Выражение лиц, глаз было само по себе так красноречиво-понятно!
Подло-преступными глазами, то жирно-свинцовыми, то убийственно-холодными, зорко наблюдали чекисты за своими рабами, скорей хищным инстинктом угадывая творящееся в душах этих белых негров…
И там, и сям слышались угрозы:
– Погодите, сволочи, радоваться, погодите! Придет ли сюда, не придет кровавый Адриан, – вам один конец! Пуля в затылок! – и свистели нагайки, разрывая платье, проводя багровые полосы на лицах…
Пришла ночь. Зажгли костры. Их трепетное пламя и горячие отсветы, игра теней – все это создавало настроение чего-то полного тревоги и жути и почти красоты, почти, если бы все это не было так отвратительно.
И чем дальше к ночи, тем более нервничали власти. Как угорелые, носились автомобили с протяжным воем сирен и с озабоченными комиссарами. А буржуазия без отдыха, без пищи и даже без воды ковыряла мостовую, вернее, делала вид, что ковыряет. Инженеры притворялись, что руководят всей этой бессмысленной, идиотской затеей. Да и само начальство в глубине пролетарских душ своих осваивалось с убеждением, что и в самом деле приказ товарища Ганди – нудная и глупая чепуха. Сам, впрочем, товарищ Ганди был несколько иного мнения.
Вот и полночь. Вот двенадцать певучих ударов. Звон старинных башенных часов, такой мелодичный, так воскресающий далекое былое, как может только воскрешать запах и звук.
В первые дни переворота, когда Мусманек сидел уже во дворце, чернь хотела испортить башенные часы под предлогом, что и часы, и башня – пережиток кровавого, – у них все кровавое, – феодализма и что мелодичный бой курантов в течение веков услаждал буржуазные уши! Тимо, пославший офицерский караул, помешал кучке вандалов исполнить свою угрозу. А потом, потом буржуазные куранты были забыты и уже не возмущали больше демократический слух.
Не успел растаять в воздухе последний удар, как с позиций, – они находились километрах в двадцати, – донеслись пушечные выстрелы. Сначала вразброд, в одиночку, а затем уже густыми-густыми очередями. Согнанные на работу офицеры, – артиллеристы же в особенности, – разбирались в этой орудийной музыке, безошибочно угадывая не только калибры, но и самые оттенки, – шрапнель, бризантный снаряд, гаубица, крепостное орудие, снятое с прибрежных фортов. Угадывали, что бой идет по всему фронту. Вздрагивали в соседних домах стекла. Уже вдали вспыхивали в темных небесах короткие зарева, вспыхивали, погасали, а красно-синие и голубые ракеты ослепительными тонкими дугами чертили темный фон…
Где-то совсем недалеко решается судьба Пандурии, – останется ли надолго еще красной или к утру уже проснется монархией? Или – или…
Ничего затяжного, длительного быть не может.
Все судорожнее метались комиссарские машины, уже забывая сигнализировать сиренами и давя людей.
Артиллерийский огонь скоро начал смолкать, слышались только одиночные выстрелы, беспорядочно-случайные. Обе стороны объясняли это каждая по-своему. Приободрившиеся чекисты решали:
– Красные гонят белогвардейскую сволочь!
Окопная буржуазия, не смея высказывать своих мыслей, думала с биением сердца:
– Король побеждает! Король освободит нас!
Офицеры-артиллеристы были ближе всех к истине, догадываясь: что-то произошло, чего они еще не могут выяснить, но произошло несомненно, иначе двести советских орудий не замолчали бы так странно.
А произошло вот что.
Адриан осуществлял свой выработанный совместно со штабом план. Этот план – демонстрация на флангах и сосредоточенный в центр «кулак» для прорыва. Две горные батареи – вся повстанческая артиллерия – открыли огонь, чтобы вызвать ответный огонь противника. И когда загрохотали все большевицкие пушки, десять белых аэропланов, снизившись на сто пятьдесят метров, переносясь от одной батареи к другой, засыпали их бомбами громадной разрушительной силы. Таким образом, в полчаса от мощной артиллерии красных уцелели жалкие недобитки, да и то потерявшие и кураж, и сердце, с терроризированной прислугой, в панике разбегавшейся куда глаза глядят.
Исполнив одно задание, летчики с таким же успехом, так же дерзко снижаясь на сто пятьдесят метров, уже другими бомбами прокладывали хаотические коридоры в тех самых проволочных заграждениях, на которые большевиками возлагалось столько упований и о которые, по их мнению, Адриан должен был расшибить лоб…
39. Паника на красном Олимпе
Несколько часов провели на фронте Дворецкий и Штамбаров. Чем они занимались там? Тем, чем могли и умели заниматься демагоги.
В штабах начальникам дивизий, особенно, если начальники эти были не новейшего пролетарского изготовления, а королевские генералы и полковники, – грозили «стенкой».
И при этом плюгавый слизняк Ганди размахивал револьвером у самых генеральских и полковничьих носов. Полковники и генералы опускали глаза, чтобы Дворецкий не мог прочесть в них всей накопившейся ненависти. В отрядах особого назначения Дворецкий призывал защищать революцию «до последней капли крови, до последнего издыхания».
– Товарищи! Дорогие товарищи! – обводил он кроличьими глазами каторжные физиономии советских жандармов. – Товарищи, за наше отечество рабочих и крестьян, за идеалы трудящихся мы все ляжем костьми!
– Все ляжем костьми! – повторяли каторжные физиономии без всякого, впрочем, энтузиазма.
– Товарищи, если наша Красная армия побежит, вы недрогнувшей рукой встретите свинцовым ливнем этих презренных трусов!
– Встретим свинцовым ливнем этих презренных трусов!
С наступлением темноты Штамбарову и Дворецкому стало как-то не по себе. У этих белых бандитов имеются аэропланы, и черт с ней, с какой-нибудь шальной бомбой. Глупая, унизительная смерть не на славном посту, а… даже и названия не подберешь…
– Нет, во дворце надежней. – И оба укатили на королевской машине в королевский дворец, приказав каждые четверть часа доносить по телефону о положении на фронте.
Во дворе поджидало их несколько видных комиссаров, в том числе и Рангья, и Вероника Барабан, вырядившаяся неизвестно почему и зачем какой-то опереточной маркитанткой.
Красно-желтые шнурованные сапоги подчеркивали неуклюжесть толстых ног. Короткая синяя юбка и такая же короткая синяя кофта в обтяжку. Свисающие груди, пропотевшие подмышки… На голове нечто вроде красного фригийского колпачка. Совсем одурела баба! Не хватало еще маленького бочонка, висящего на ремне сбоку.