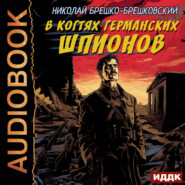По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В сетях предательства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Через восемь дней я поставлю вас в известность.
– Пусть будет – да! Это в ваших же интересах, Дмитрий Владимирович…
Юнгшиллер проводил гостя до самой машины и собственноручно захлопнул дверцу. Этой чести по адресу человека, вышедшего из тюрьмы, Юнгшиллер не оказывал посещавшим его действительным тайным советникам и адмиралам. Оставшись один, Юнгшиллер побранил себя за излишнюю откровенность. Побранил и, как человек, уверенный в себе и в том, что все, что он делает, хорошо, тотчас же успокоился.
Загорскому смысла нет никакого болтать. Зачем? Для них он умер, они его выбросили за борт, и теперь он весь – одна «оппозиция». Но если бы даже и проговорился, кто ему поверит? Ганс Юнгшиллер считается в двадцати миллионах, а такие люди – уже вне всяких подозрений.
Он вызвал по телефону «Семирамис» и попросил соединить себя с номером аббата Манеги.
А Загорский, откинувшись на кожаные подушки, мчался по направлению к городу. Мелькали мостики, мосты, деревья, пешеходы, гудящие сиренами автомобили, экипажи. Сумерки, прозрачные, бессонные, уже переливались в белую ночь…
Кто-то узнал Загорского, поклонился, но Загорский не заметил. Он думал о своей беседе на балконе Юнгшиллера. Сам Юнгшиллер не особенно удивил его. Он знал, что большинство живущих в России австро-германцев, и богатых и бедных, совмещают со своим явным занятием и ремеслом еще и тайное политическое служение своему фатерлянду. Знал, и почему же этот Юнгшиллер, так прочно осевший на берегах Невы, должен явиться исключением? Но вот что удивило Дмитрия Владимировича – это имя Елены Матвеевны Лихолетьевой. Неужели, неужели какие-то загадочные темные щупальцы протянулись между нею и этим «русским патриотом», а следовательно, и со всеми теми, кто с ним заодно? Это, это уже совсем дело дрянь…
Высокая, видная, с белым, бледным какой-то восковой бледностью лицом, она была бы даже красива, не порти отчасти ее большой нос. Бывают крупные, породистые носы, и тогда – совсем другое впечатление. Но у Елены Матвеевны большой – и только, без всякой породы.
Она вся холодная, в манерах, обращении. Холодное, малоподвижное лицо. Какая-то белая маска. И глаза холодные, ничего в них не прочтешь, кроме эгоизма бездонного и культа своего собственного я, своего тела, всего, что близко связано с нею, Еленой Матвеевной Лихолетьевой…
В силу положения своего супруга Лихолетьева имеет право считаться дамою общества, если не замкнутой родовой, то, во всяком случае, бюрократической знати. Но и в этом чисто петербургском кругу, где все более или менее знают друг друга, она явилась пришелицей, новой, никому не ведомой пришелицей из глухой провинции…
Однако в известном такте и в умении жить ей нельзя отказать. Она не лезет, подобно другим дамам-выскочкам, туда, где ее могут осадить и щелкнуть по носу. Честолюбивая, властная Елена Матвеевна сама хочет быть центром. И достигла этого. Сиятельные дамы, говорящие о ней в своих салонах с оскорбительной гримасой снисхождения, хлопочут у Елены Матвеевны за своих племянников, сыновей, братьев.
Говорят, она обделывает всевозможные дела за спиной своего ничего не подозревающего, влюбленного в нее мужа. Говорят, она не жалует просителей с пустыми руками и к ней знают дорогу, и верную, крупные подрядчики, поставщики и просто «комбинаторы» высокого полета.
Все это вспомнил дорогой Дмитрий Владимирович. В дни своего «блеска» он встречал Лихолетьеву. Но хотя он был молодым офицером в небольших чинах, ему и его жене открыты были те двери, что плотно, раз и навсегда, закрылись перед Еленой Матвеевной.
Он встречал ее в том переходном обществе, которое само себя называет «великосветским» и которое комплектуется из сыновей выслужившихся чиновников и офицеров гвардейских частей поскромнее. Лихолетьева дальше этого слоя не поднималась, Загорский же, наоборот, лишь время от времени снисходил к этому кругу.
Он вспомнил – это было около трех лет назад – один полукутеж, полупросто ужин в отдельном кабинете «Медведя». Было несколько однополчан Загорского, и в их компании очутился германский военный агент. Всегда напыщенный, высокомерный полковник, с пробором через всю голову, быстро охмелел от двух-трех фужеров шампанского и, подсев на диван к Загорскому, начал выбалтывать о существовании двух квартир, на Лиговке и на улице Гоголя, где можно покупать русские политические секреты. Военный агент уронил при этом имя Лихолетьевой.
Тогда Загорский решил, что пьяный немец мелет вздор. Но теперь, вспомнив другого «немца», Юнгшиллера, мало-помалу пришел к заключению, что здесь, пожалуй, где-то близко таится правда.
Кстати, вскоре после того ужина военный агент был отозван в Берлин. Случайное совпадение или германское посольство поспешило убрать не в меру словоохотливого полковника, – кто его знает?
… Загорский тянул со своим ответом. Юнгшиллер дважды звонил к нему в банк, Загорский отговаривался недосугом, просил повременить.
Минула неделя, другая, третья… Дмитрий Владимирович виделся почти ежедневно с Забугиной, но так и не рассказал своего приключения. И вспомнил об этом лишь ночью, когда они возвращались домой с прогулки, а маленькие газетчики бегали по всем направлениям, сбывая прохожим свой сенсационный товар о катастрофе в далекой столице Боснии.
Загорский вкратце описал Вере Клавдиевне свое посещение «Виллы Сальватор». Девушка была возмущена.
– Негодяй, как он смел предлагать вам измену? Вы, такой самолюбивый, гордый, вам следовало его оскорбить, ударить!..
– Он думал, что я продаюсь и меня, «бывшего человека», можно купить. Он учел «внешность», но не учел психологии. Конечно, я мог бы его оскорбить, ударить, швырнуть вниз с балкона. Мог бы, но – к чему? С такими типами, как Юнгшиллер, не считаются. Оскорбление не достигло бы цели, потому что он его не почувствовал бы, или разве только физически. Но я вспугнул бы его, а так у меня будет возможность понаблюдать, поразузнать… Я уверен, что этот благотворитель и «без пяти минут генерал» – темная каналья и его «Вилла Сальватор» является штаб-квартирой, вернее, одной из штаб-квартир немецкого шпионажа в Петербурге. Мне все подозрительно теперь. Все – и пристань с моторными лодками, и башня, и голуби, что с таким приятным шелковым шелестом крыльев носятся над конюшней и садятся на плечи конюхам, настолько они ручные. Моя подозрительность идет дальше… Вы думаете, что я фантазирую в эту белую ночь, но, право же, сопоставьте такое нетерпеливое желание этих господ видеть меня на австрийской службе с убийством эрцгерцога, убийством, в котором мне чудится первое зарево пожара, могущего разрастись до чудовищных, необъятных размеров…
– Вы фантазируете, а мне жутко, – молвила тихо Забугина и, во власти нарисованной Дмитрием Владимировичем картины, прижалась невольно к нему, и он почувствовал ее всю, близко, близко почувствовал, хрупкую, женственную.
Они шли через мостик. Внизу, в гранитных берегах отливала тусклой свинцовой гладью застывшая вода, отражая в себе, как в зеркале, опрокинутые громады каменных домов, тающих в прозрачной, белесой, тоскующей дымке…
14. Грезы банкира
Банкир Мисаил Григорьевич Айзенштадт и супруга его Сильфида Аполлоновна жили душа в душу. Настолько душа в душу, что самым серьезным образом обсуждали вопрос относительно «содержанки» Мисаила Григорьевича. Супруги пришли к заключению, что Мисаил Григорьевич настолько богат, настолько известен всем и вся в Петербурге и даже за пределами обширного отечества, что не иметь содержанки ему – это уже совсем дурной тон.
Честолюбивая Сильфида Аполлоновна принимала этот назревший вопрос, пожалуй, гораздо ближе к сердцу, нежели сам Айзенштадт.
Совещание – в громадном кабинете банкира, где все давит своей тяжеловесной монументальностью, все, за исключением хозяина, юркого, маленького, с изрядным животиком, потому что какой же порядочный банкир мыслим без животика?
Правда, за последнее время создалось новое поколение банкиров, сухощавых, бритых, с лицами не то благовоспитанных каторжников, не то английских спортсменов.
Но почтеннейший Мисаил Григорьевич никаким спортом, кроме биржевого, не занимался, и зачем, спрашивается, ему сухощавость? Наоборот, он искренне сетовал, что фигуре его недостает солидности. Прибавить ему еще два вершка и пуд весу, и было бы совсем хорошо.
Что до роста, здесь, увы, ничто не поможет, хотя есть какие-то шарлатаны открытой сцены, произвольно «увеличивающие и уменьшающие свой рост», но вот касательно лишнего пуда – это, как говорится, дело наживное.
Итак, в кабинете с министерским письменным столом, величиной с добрый бильярд, и с кожаными креслами с высоченными спинками, – с места не сдвинешь, – происходил семейный совет.
Мисаил Григорьевич был вообще нежный супруг, а тут Сильфида Аполлоновна мудрым женским тактом своим окончательно умилила его.
– Сильфидочка, божество мое, иди сядь ко мне на колени…
Сильфида Аполлоновна, – вот кто был монументальным существом совсем уж в тоне и духе с этим кабинетом-гигантом, – рослая, мощная, с формами рубенсовских женщин и даже сверхрубенсовских, – она в своих очень тяжелых, очень дорогих и очень безвкусных парчовых и расшитых золотом платьях, с целым ювелирным магазином на голове, на тучной короткой шее и на груди напоминала какое-то буддийское божество, сплошь изукрашенное драгоценными каменьями.
Такое великолепие допускалось хотя и весьма часто, – Айзенштадты вели жизнь шумную, светскую, – но лишь в соответствующих случаях. В балете, на званых вечерах, раутах – либо в гостях, либо в своем собственном особняке.
Сильфида Аполлоновна появлялась вымытая, надушенная, с целым вавилонским столпотворением на голове – творчество искусных пальцев француза-парикмахера.
Будучи женщиной в высшей степени добродетельной, никогда и в помыслах не изменившей мужу, которого она боготворила, Сильфида Аполлоновна имела невинную слабость – оголяться. Глубокий вырез и на груди, и на спине. Но так как спина этой рубенсовской банкирессы была жирна и вздувалась горбом, то походила на грудь. Это обстоятельство ввело как-то раз в заблуждение весьма элегантного и весьма близорукого молодого человека. Он разлетелся к ручке Сильфиды, но разлетелся не с той стороны, с какой это обыкновенно полагается… Убедившись в своей ошибке, молодой человек пришел в немалый конфуз. Вертевшийся тут же Мисаил Григорьевич нашел ключ к избежанию впредь подобных недоразумений.
– К моей жене надо подходить с той стороны, где брошь! Перед там, где брошь…
Действительно, на груди Сильфиды Алоллоновны путеводной звездой сияла всех и вся издали ослеплявшая громадная бриллиантовая звезда, такая громадная, любому сановнику впору повесить на грудь.
– Сильфидочка, ну, садись же…
Сильфида Аполлоновна в красном затрапезном капоте, не успевшая умыться и причесаться, осторожно опустилась на колени супруга всей своей тяжестью. Бедный Мисаил Григорьевич утонул весь под этим рыхлым, свободным от корсета и платья-кирасы телом.
Он застонал. Физическая боль победила нежное чувство.
– В тебе семь пудов, ты была бы, наверное, хорошей борчихой. Дядя Ваня охотно ангажировал бы тебя в свой международный чемпионат и рекламировал бы Тетей Пудом… Нет, шутки в сторону, тебе, как ты себе хочешь, необходимо немножечко похудеть.
– Мисаил. Это мое больное место. Ко мне ходит каждый день массажистка, а уходит она измученная!..
– Измученная? Что значит? Нанимай двух массажисток, денег жалко, что ли? А самое лучшее, если ты начнешь ходить к мадам Карнац. Это хороший тон – бывать в институте мадам Карнац. Там бывает много клиенток из нашего общества. Она тебе что-нибудь выдумает, и ты похудеешь. Но вставай, Сильфидочка, или ты меня раздавишь…
Сильфида Аполлоновна пересела на другое кресло.
– Ну, а теперь будем обсуждать. Итак, – продолжал Айзенштадт, – мне нужна содержанка. На ком бы остановить свой выбор? Что ты скажешь про Холодцеву?
– Фе, Мисаил! Где у тебя твоя гениальная голова? Холодцева, правда, еще до сих пор одна из красивейших женщин в Петербурге, но не та марка, не та. Когда с ней жил принц крови, иметь ее на содержании было бы шикарно. Я бы не сказала ни слова, но теперь! Теперь она путается, говорят, с каким-то жидом…
– Ты имеешь свой резон, Холодцева – не дело для меня. Ну, тогда кого же? Вот разве оперная Ковалева? Классная женщина, шикарная женщина! Только ее нет здесь. Она в Париже и в третий раз вышла замуж за какого-то дурака. Не могу же я иметь с ней сношение на таком большом расстоянии.
– Пусть будет – да! Это в ваших же интересах, Дмитрий Владимирович…
Юнгшиллер проводил гостя до самой машины и собственноручно захлопнул дверцу. Этой чести по адресу человека, вышедшего из тюрьмы, Юнгшиллер не оказывал посещавшим его действительным тайным советникам и адмиралам. Оставшись один, Юнгшиллер побранил себя за излишнюю откровенность. Побранил и, как человек, уверенный в себе и в том, что все, что он делает, хорошо, тотчас же успокоился.
Загорскому смысла нет никакого болтать. Зачем? Для них он умер, они его выбросили за борт, и теперь он весь – одна «оппозиция». Но если бы даже и проговорился, кто ему поверит? Ганс Юнгшиллер считается в двадцати миллионах, а такие люди – уже вне всяких подозрений.
Он вызвал по телефону «Семирамис» и попросил соединить себя с номером аббата Манеги.
А Загорский, откинувшись на кожаные подушки, мчался по направлению к городу. Мелькали мостики, мосты, деревья, пешеходы, гудящие сиренами автомобили, экипажи. Сумерки, прозрачные, бессонные, уже переливались в белую ночь…
Кто-то узнал Загорского, поклонился, но Загорский не заметил. Он думал о своей беседе на балконе Юнгшиллера. Сам Юнгшиллер не особенно удивил его. Он знал, что большинство живущих в России австро-германцев, и богатых и бедных, совмещают со своим явным занятием и ремеслом еще и тайное политическое служение своему фатерлянду. Знал, и почему же этот Юнгшиллер, так прочно осевший на берегах Невы, должен явиться исключением? Но вот что удивило Дмитрия Владимировича – это имя Елены Матвеевны Лихолетьевой. Неужели, неужели какие-то загадочные темные щупальцы протянулись между нею и этим «русским патриотом», а следовательно, и со всеми теми, кто с ним заодно? Это, это уже совсем дело дрянь…
Высокая, видная, с белым, бледным какой-то восковой бледностью лицом, она была бы даже красива, не порти отчасти ее большой нос. Бывают крупные, породистые носы, и тогда – совсем другое впечатление. Но у Елены Матвеевны большой – и только, без всякой породы.
Она вся холодная, в манерах, обращении. Холодное, малоподвижное лицо. Какая-то белая маска. И глаза холодные, ничего в них не прочтешь, кроме эгоизма бездонного и культа своего собственного я, своего тела, всего, что близко связано с нею, Еленой Матвеевной Лихолетьевой…
В силу положения своего супруга Лихолетьева имеет право считаться дамою общества, если не замкнутой родовой, то, во всяком случае, бюрократической знати. Но и в этом чисто петербургском кругу, где все более или менее знают друг друга, она явилась пришелицей, новой, никому не ведомой пришелицей из глухой провинции…
Однако в известном такте и в умении жить ей нельзя отказать. Она не лезет, подобно другим дамам-выскочкам, туда, где ее могут осадить и щелкнуть по носу. Честолюбивая, властная Елена Матвеевна сама хочет быть центром. И достигла этого. Сиятельные дамы, говорящие о ней в своих салонах с оскорбительной гримасой снисхождения, хлопочут у Елены Матвеевны за своих племянников, сыновей, братьев.
Говорят, она обделывает всевозможные дела за спиной своего ничего не подозревающего, влюбленного в нее мужа. Говорят, она не жалует просителей с пустыми руками и к ней знают дорогу, и верную, крупные подрядчики, поставщики и просто «комбинаторы» высокого полета.
Все это вспомнил дорогой Дмитрий Владимирович. В дни своего «блеска» он встречал Лихолетьеву. Но хотя он был молодым офицером в небольших чинах, ему и его жене открыты были те двери, что плотно, раз и навсегда, закрылись перед Еленой Матвеевной.
Он встречал ее в том переходном обществе, которое само себя называет «великосветским» и которое комплектуется из сыновей выслужившихся чиновников и офицеров гвардейских частей поскромнее. Лихолетьева дальше этого слоя не поднималась, Загорский же, наоборот, лишь время от времени снисходил к этому кругу.
Он вспомнил – это было около трех лет назад – один полукутеж, полупросто ужин в отдельном кабинете «Медведя». Было несколько однополчан Загорского, и в их компании очутился германский военный агент. Всегда напыщенный, высокомерный полковник, с пробором через всю голову, быстро охмелел от двух-трех фужеров шампанского и, подсев на диван к Загорскому, начал выбалтывать о существовании двух квартир, на Лиговке и на улице Гоголя, где можно покупать русские политические секреты. Военный агент уронил при этом имя Лихолетьевой.
Тогда Загорский решил, что пьяный немец мелет вздор. Но теперь, вспомнив другого «немца», Юнгшиллера, мало-помалу пришел к заключению, что здесь, пожалуй, где-то близко таится правда.
Кстати, вскоре после того ужина военный агент был отозван в Берлин. Случайное совпадение или германское посольство поспешило убрать не в меру словоохотливого полковника, – кто его знает?
… Загорский тянул со своим ответом. Юнгшиллер дважды звонил к нему в банк, Загорский отговаривался недосугом, просил повременить.
Минула неделя, другая, третья… Дмитрий Владимирович виделся почти ежедневно с Забугиной, но так и не рассказал своего приключения. И вспомнил об этом лишь ночью, когда они возвращались домой с прогулки, а маленькие газетчики бегали по всем направлениям, сбывая прохожим свой сенсационный товар о катастрофе в далекой столице Боснии.
Загорский вкратце описал Вере Клавдиевне свое посещение «Виллы Сальватор». Девушка была возмущена.
– Негодяй, как он смел предлагать вам измену? Вы, такой самолюбивый, гордый, вам следовало его оскорбить, ударить!..
– Он думал, что я продаюсь и меня, «бывшего человека», можно купить. Он учел «внешность», но не учел психологии. Конечно, я мог бы его оскорбить, ударить, швырнуть вниз с балкона. Мог бы, но – к чему? С такими типами, как Юнгшиллер, не считаются. Оскорбление не достигло бы цели, потому что он его не почувствовал бы, или разве только физически. Но я вспугнул бы его, а так у меня будет возможность понаблюдать, поразузнать… Я уверен, что этот благотворитель и «без пяти минут генерал» – темная каналья и его «Вилла Сальватор» является штаб-квартирой, вернее, одной из штаб-квартир немецкого шпионажа в Петербурге. Мне все подозрительно теперь. Все – и пристань с моторными лодками, и башня, и голуби, что с таким приятным шелковым шелестом крыльев носятся над конюшней и садятся на плечи конюхам, настолько они ручные. Моя подозрительность идет дальше… Вы думаете, что я фантазирую в эту белую ночь, но, право же, сопоставьте такое нетерпеливое желание этих господ видеть меня на австрийской службе с убийством эрцгерцога, убийством, в котором мне чудится первое зарево пожара, могущего разрастись до чудовищных, необъятных размеров…
– Вы фантазируете, а мне жутко, – молвила тихо Забугина и, во власти нарисованной Дмитрием Владимировичем картины, прижалась невольно к нему, и он почувствовал ее всю, близко, близко почувствовал, хрупкую, женственную.
Они шли через мостик. Внизу, в гранитных берегах отливала тусклой свинцовой гладью застывшая вода, отражая в себе, как в зеркале, опрокинутые громады каменных домов, тающих в прозрачной, белесой, тоскующей дымке…
14. Грезы банкира
Банкир Мисаил Григорьевич Айзенштадт и супруга его Сильфида Аполлоновна жили душа в душу. Настолько душа в душу, что самым серьезным образом обсуждали вопрос относительно «содержанки» Мисаила Григорьевича. Супруги пришли к заключению, что Мисаил Григорьевич настолько богат, настолько известен всем и вся в Петербурге и даже за пределами обширного отечества, что не иметь содержанки ему – это уже совсем дурной тон.
Честолюбивая Сильфида Аполлоновна принимала этот назревший вопрос, пожалуй, гораздо ближе к сердцу, нежели сам Айзенштадт.
Совещание – в громадном кабинете банкира, где все давит своей тяжеловесной монументальностью, все, за исключением хозяина, юркого, маленького, с изрядным животиком, потому что какой же порядочный банкир мыслим без животика?
Правда, за последнее время создалось новое поколение банкиров, сухощавых, бритых, с лицами не то благовоспитанных каторжников, не то английских спортсменов.
Но почтеннейший Мисаил Григорьевич никаким спортом, кроме биржевого, не занимался, и зачем, спрашивается, ему сухощавость? Наоборот, он искренне сетовал, что фигуре его недостает солидности. Прибавить ему еще два вершка и пуд весу, и было бы совсем хорошо.
Что до роста, здесь, увы, ничто не поможет, хотя есть какие-то шарлатаны открытой сцены, произвольно «увеличивающие и уменьшающие свой рост», но вот касательно лишнего пуда – это, как говорится, дело наживное.
Итак, в кабинете с министерским письменным столом, величиной с добрый бильярд, и с кожаными креслами с высоченными спинками, – с места не сдвинешь, – происходил семейный совет.
Мисаил Григорьевич был вообще нежный супруг, а тут Сильфида Аполлоновна мудрым женским тактом своим окончательно умилила его.
– Сильфидочка, божество мое, иди сядь ко мне на колени…
Сильфида Аполлоновна, – вот кто был монументальным существом совсем уж в тоне и духе с этим кабинетом-гигантом, – рослая, мощная, с формами рубенсовских женщин и даже сверхрубенсовских, – она в своих очень тяжелых, очень дорогих и очень безвкусных парчовых и расшитых золотом платьях, с целым ювелирным магазином на голове, на тучной короткой шее и на груди напоминала какое-то буддийское божество, сплошь изукрашенное драгоценными каменьями.
Такое великолепие допускалось хотя и весьма часто, – Айзенштадты вели жизнь шумную, светскую, – но лишь в соответствующих случаях. В балете, на званых вечерах, раутах – либо в гостях, либо в своем собственном особняке.
Сильфида Аполлоновна появлялась вымытая, надушенная, с целым вавилонским столпотворением на голове – творчество искусных пальцев француза-парикмахера.
Будучи женщиной в высшей степени добродетельной, никогда и в помыслах не изменившей мужу, которого она боготворила, Сильфида Аполлоновна имела невинную слабость – оголяться. Глубокий вырез и на груди, и на спине. Но так как спина этой рубенсовской банкирессы была жирна и вздувалась горбом, то походила на грудь. Это обстоятельство ввело как-то раз в заблуждение весьма элегантного и весьма близорукого молодого человека. Он разлетелся к ручке Сильфиды, но разлетелся не с той стороны, с какой это обыкновенно полагается… Убедившись в своей ошибке, молодой человек пришел в немалый конфуз. Вертевшийся тут же Мисаил Григорьевич нашел ключ к избежанию впредь подобных недоразумений.
– К моей жене надо подходить с той стороны, где брошь! Перед там, где брошь…
Действительно, на груди Сильфиды Алоллоновны путеводной звездой сияла всех и вся издали ослеплявшая громадная бриллиантовая звезда, такая громадная, любому сановнику впору повесить на грудь.
– Сильфидочка, ну, садись же…
Сильфида Аполлоновна в красном затрапезном капоте, не успевшая умыться и причесаться, осторожно опустилась на колени супруга всей своей тяжестью. Бедный Мисаил Григорьевич утонул весь под этим рыхлым, свободным от корсета и платья-кирасы телом.
Он застонал. Физическая боль победила нежное чувство.
– В тебе семь пудов, ты была бы, наверное, хорошей борчихой. Дядя Ваня охотно ангажировал бы тебя в свой международный чемпионат и рекламировал бы Тетей Пудом… Нет, шутки в сторону, тебе, как ты себе хочешь, необходимо немножечко похудеть.
– Мисаил. Это мое больное место. Ко мне ходит каждый день массажистка, а уходит она измученная!..
– Измученная? Что значит? Нанимай двух массажисток, денег жалко, что ли? А самое лучшее, если ты начнешь ходить к мадам Карнац. Это хороший тон – бывать в институте мадам Карнац. Там бывает много клиенток из нашего общества. Она тебе что-нибудь выдумает, и ты похудеешь. Но вставай, Сильфидочка, или ты меня раздавишь…
Сильфида Аполлоновна пересела на другое кресло.
– Ну, а теперь будем обсуждать. Итак, – продолжал Айзенштадт, – мне нужна содержанка. На ком бы остановить свой выбор? Что ты скажешь про Холодцеву?
– Фе, Мисаил! Где у тебя твоя гениальная голова? Холодцева, правда, еще до сих пор одна из красивейших женщин в Петербурге, но не та марка, не та. Когда с ней жил принц крови, иметь ее на содержании было бы шикарно. Я бы не сказала ни слова, но теперь! Теперь она путается, говорят, с каким-то жидом…
– Ты имеешь свой резон, Холодцева – не дело для меня. Ну, тогда кого же? Вот разве оперная Ковалева? Классная женщина, шикарная женщина! Только ее нет здесь. Она в Париже и в третий раз вышла замуж за какого-то дурака. Не могу же я иметь с ней сношение на таком большом расстоянии.