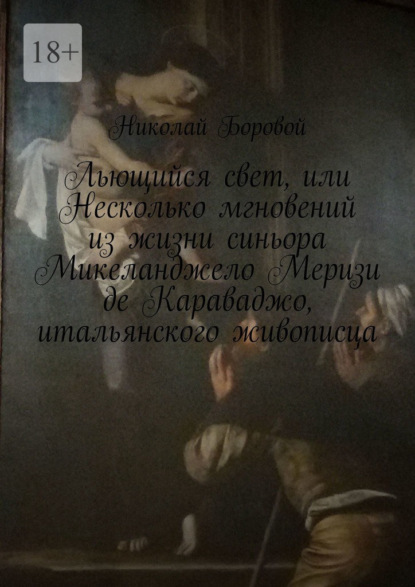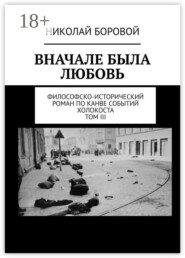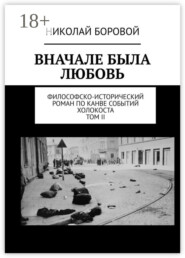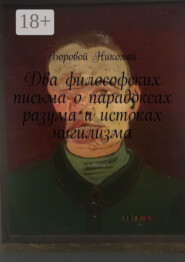По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Льющийся свет, или Несколько мгновений из жизни синьора Микеланджело Меризи де Караваджо, итальянского живописца. Драма-роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Караваджо. (откинувшись во время тирады к стенке и с закрытыми глазами) Ах же ты бедолага… Слепец, который верит, что познал истину… (после паузы) О, если бы ты знал, какое это счастье суметь передать на холсте свет и горькую мудрость луны, под которой мерз ночью… Залить ее светом холст, словно мир… Мне нечего сказать тебе, только знай – однажды боль в твоей душе не сможет ни успокоить, ни залить уже ничего… Хозяйка! (кричит) О достойная Анна-Мария жена своего мужа с добрым сердцем… Отведи меня в комнату наверх, ибо я слишком много выпил, чтобы самому и не свалившись доползти до приюта твоей бескорыстной доброты, но не хочу мешать дурной компанией этому синьору насладиться отличным барашком и вином. (Берет сумку с холстами и шпагу, опираясь на нее и внезапно с трезвой серьезностью и твердостью в языке) Мне жаль тебя, ибо время уже начало отсчет к твоему краху. А когда наступит крах… О, я не хотел бы в тот момент быть рядом! (Вместе с хозяйкой, которая вполголоса отчитывает его за опасную наглость, уходит)
Риччо. (заливисто смеясь в след и наливая вино) Глупец, не желающий признавать истину очевидного. Я много видел таких и сомневаться в выбранном пути у меня нет причин. Эй, Вельзевул, отродье предвечной бездны, иди-ка сюда! (Наливает полный кубок вина) Давай, сшибись с человеком, который живет по заповедям Святой Церкви, даже когда совершает зло… (выпивает и продолжает) Ибо Святая Церковь – плоть от плоти душа мира, а мир полон зла и требует его в ответ… Глупец!.. Эй вы, там! Трусливые и чем-то мнящие себя холуи, садитесь ко мне поближе, за мой теперь стол, ешьте и пейте со мной вдоволь, герцог Строцци платит за это! И не обижайтесь на грубые слова – я говорю вам их с любовью и уважением, ибо на вас стоит мир!
Его слова слышат и кутеж пускается вовсю.
Картина III
Вилла Мадама, резиденция кардинала Франческо дель Монте, недалеко от Ватикана. В большой и светлой зале столпились несколько известных римских художников, которые должны представить кардиналу и собравшимся новые полотна. Среди них Президент недавно созданной Академии Святого Луки Федерико Цукарро, известные художники Галло и Д‘Арпино, Грамматико и Джентилески. Сами полотна поставлены тут же и пока накрыты холстами.
Мантелотти, секретарь кардинала дель Монте (входя). Досточтимые синьоры! Его высокопреосвященство монсиньор кардинал несколько задерживается с документами, которые должны получить его подпись, просил простить его и не стесняться пока в угощениях.
Художники и собравшиеся отвешивают поклоны и следуют словам Мантелотти.
Галло. Синьоры, что не говорите, но сам Господь благословляет путь и дела его высокопреосвященства! Испокон веков Святая Церковь и великие мира сего старались покровительствовать искусству, которое возвышает людские души и приближает их к Господу. И монсиньор кардинал кажется решил не уступить великим меценатам прошлого, собирая вокруг себя в Риме не одни лишь признанные таланты, но и людей, в которых печать Господня пока только проступает, по большей части надеждой. И видит бог, если такой надежде дано сбыться, то лишь благодаря этому.
Д`Арпино. Вы правы Галло. Не только Господь, но любой, имеющий ум и глаза знает, что труд наш жертвенен и забирает целиком силы не одного лишь тела, но еще более – ума и служащей Господу души. И жертву Господу мы приносим именно трудом и рвением, а не только очищающей людские души силой благочестивых сюжетов, которые создаем кистью. Один из моих подмастерьев, хоть и весьма нестерпимый тип, которого я даже не могу назвать учеником, ибо у меня он ничему не научился и учиться не желал, да и вообще, сдавалось мне, учиться не способен, умел, однако же, сказать иногда со смыслом. Из его уст я однажды услышал – сила любви творит в нас и ею мы возносим хвалу Господу, оказываясь способными целиком отдать себя труду и дарованному таланту. Слова красивые и кажутся мне верными. Жаль только, что произнесены из недостойных уст и тем, к кому, похоже, имеют отношение стороннее. Быть может он просто вычитал их где-то, но они верны. И вот, если бы не щедрость духа служителей церкви и великих мира сего, просветляющих донаторством их души, этот труд и чудесные плоды его, ставшие гордостью времени и христианских стран, были бы невозможны. Вы знаете мне иногда думается, что душу самого закоснелого из язычников, попади тот во Флоренцию или Рим, должны обратить в веру в Господа величие красоты и жертвенного труда, который из века в век созидал ее…
Галло. Правы конечно и вы, кабальере, но я кажется знаю, кого вы имеете в виду и прошу вас – не упоминайте об этом человеке, не омрачайте прекрасные мгновения. Мои подмастерья до сих пор свирипеют и начинают исходить злобой, стоит только случаю напомнить о нем. Ведь до вас он какое-то время работал и в моей мастерской. И лишь удача спасла его однажды от перелома костей.
Джентилески. Кто спорил бы с вами, Д’Арпино! Труд наш высок и жертвенен. И был бы невозможен, окажись люди нашего рода занятий обречены отдавать силы еще и заботам о хлебе насущном, которые, дай только им волю, поглотят жизнь и человека целиком. У мира «дольнего» и «горнего» разные правды, не это ли учим мы с юности у Святой Церкви? И не освободи от тягот мира того, в ком печать Господня читается не одним лишь даром кисти или чего-то подобного, но еще и талантом учения и труда – всё это безвозвратно погибнет. Однако, о ком же вы говорили только что?
Галло. О, прошу вас достойнейший, не будем! Скажу лишь, что в изобилии даруемое талантам на облегчение их нужд и преданный труд, призванный раскрыть их возможности, требует именно труда и способности учиться, склонить голову и впитывать науку, которую более опытный, признанный и уже доказавший себя наставник милостиво дарит, открывая путь и надежду. Уметь принять несомненную истину, даже если не способен пока понять ее. А человек, которого упомянул кабальере, с его необузданной натурой впитавший кажется более от Искусителя, нежели от Господа, этим главным умением, нравственным и воспитываемым церковью и молитвами, не обладал. И оставим, прошу.
Грамматико. (на ухо Джентилески) Я потом скажу вам, мы оба знаем этого человека. Вправду, не стоит – эти двое узнали его быть может именно с лучшей стороны, а потому каждый на свой манер затаил искренню обиду и гнев.
Цуккаро. Досточтимые синьоры, члены Академии! Оставим сторонние вещи и восславим его высокопреосвященство, покровительствующего искусству от души! И сделаем это именно в его отсутствие, ибо множество раз я убеждался, что откровенная лесть претит его достойной душе! Виват! (остальные отзываются).
Д`Арпино. (чуть более интимно Цукарро) Вы, синьор Президент, однако же признаете, что желая покровительствовать искусству и ищущим умам, его высокопреосвященство подчас не слишком осторожен и привлекает в общий круг людей непредсказуемых и с той или иной стороны излишне норовливых. Взять хотя бы философа Кампанеллу. Я не удивлюсь, если он однажды кончит так же, как ныне томящийся в Сан-Анджело еретик Бруно. Я иногда что-то такое чувствую в его идеях, умело замаскированное, но тем не менее. (уже совсем шепотом) Монсиньор кардинал так увлечен рисковать, давая шанс чему-то новому и не вполне укладывающемуся в принятые рамки, что сдается – не наложи Святой престол в свое время на этого Бруно отречения, нам довелось бы однажды увидеть его и тут.
Цукарро. (благодушно) Не слишком ли вы переперчили вашу тираду, кабальере? Его высокопреосвященство строго блюдет правила сана, а любовь к оригинальным людям… подобное простительно добродетельной душе… К тому же не забывайте, что на Венецианскую республику, в отличии от Тосканы или Умбрии, власть Святого Престола вовсе не распространяется и оттого понятно, что кардинал-венецианец невольно желает собирать вокруг себя тех, на кого Папа посмотрит косо.
Входят кардинал дель Монте с секретарем Монтинелли.
Кардинал. (поверх немедленно полившихся почтительных славословий и поклонов) Синьоры, у меня нет сомнений в вашей привязанности ко мне. Оставим ее положенные проявления и перейдем немедля к главному (художникам) Досточтимые синьоры! Зерно нашей сегодняшней встречи, приготовленные вами для публики полотна, будоражат мне душу и ум еще с утра. Так не томите же!
Первым открывает свое полотно подающей восхищенные возглазы публике президент академии Цукарро.
Кардинал. Синьор Федерико, вашим «Успением Богоматери» вы потрясли всех здесь присутствующих так же, как почти тридцать лет назад «Положением во гроб». Как и тогда, просветленную трагедию успения Святой Девы дано ощутит до глубины души, ибо натура совершенно воссоздана вашей кистью, а изысканность стиля лишь подчеркивает, что речь идет о мире «горнем». Великий Тициан был бы потрясен, даруй ему Господь возможность увидеть это полотно. Однако, отчего же вы таились и лишь сегодня нам, потрясенным, дано узнать, что уже долгое время вы трудились над ним?
Цуккаро. (весьма довольный) Монсиньор, я желал преподнести его в подарок вам в честь годовщины создания Академии.
Кардинал. Дар по истине бесценный. Искусство времени словно бы дышит в нем самой своей сутью.
Галло подводит к его полотну. Раздаются конечно же хвалебные и восхищенные возгласы.
Кардинал. Уверен, достойный синьор Лоренцо, что это полотно найдет умеющие оценить его глаза. Вы верны благороднейшим традициям, дух легендарных эпох в нем не может не восхитить.
Грамматико. (на ухо Джентилески) Либо же породить чувство оскомины, ибо всё очень уж узнаваемо, словно бы мысль застыла, а потребности искать новые пути прикоснуться к красоте нет и быть не может.
Д`Арпино сбрасывает покров с его полотна.
Цукарро. Ваше «Изгнание из Рая» чудесно и целиком в русле тех идей, которыми мы живем. Возвышенное благородство старой манеры сроднено здесь с глубоким ощущением натуры и придает образам прародителей и сюжету не «угловатость», как скажут некоторые, а поучительную обобщенность.
Д`Арпино. Благодарю вас, синьор Президент. Великие мастера минувшей эпохи, у которых мы склонив голову учимся, стремились столь же глубоко понимать натуру и быть ей верными, сколь претворять ее, словно бы очищая ее от присущей ей грубости и превращая ее так в достойный язык для божественных истин. Особенно учит этому великий Леонардо. Упоение натурой, какова она, встречалось у них редко. А внимания к повседневной пошлости, ныне совращающего умы под влиянием северных художников, они слава богу вовсе не знали, ибо цель искусства понимали хорошо.
Галло. (на ухо Д’Арпино) Всё это верно, дражайший коллега, но с каких пор вы стали учиться у собственных подмастерий?
Д`Арпино. (оскорбленно и недоумевая) О чем это вы?..
Галло. А свет? Кого вы хотите обмануть, я ведь видел некоторые его холсты, которые он писал в тайне ото всех и помимо основных занятий. Быть может не желая, но вы подхватили у него это. Однако, сдается мне, лучше бы вы подхватили у него римскую лихорадку – меньше было бы вреда.
Д`Арпино. (начиная заводиться) Позвольте…
Джентилески. (видя назревающую ссору и желая предотвратить ее) Синьоры, прошу вас сюда, оценить скромный плод моих усилий! Полотно «Давид, побеждающий Голиафа» невелико и я рассчитываю превратить его однажды в более совершенное. Это лишь проба каких-то новых мыслей…
Собравшиеся окружают полотно и некоторое время молчат, ибо есть в нем вправду нечто необычное, над чем тянет задуматься…
Кардинал. Вы знаете, Джентилески, вы меня удивили. Оно по своему великолепно.
Галло. Гран Дио! Д’Арпино, вы только взгляните – это правда или мне кажется? О нет, это точно под его влиянием! Джентилески, сознавайтесь – вы знакомы с этим человеком и уже успели научиться у него дурновкусице и замашкам!
Джентилески. (глядя пристально и с сарказмом, но примирительно) О чем это вы, Галло? И что же дурного вы увидели в картине?
Галло. (сдавая назад, но по прежнему кипя возмущением) Я не сказал, что она дурна. Но зачем вы оскорбили палитру и традиции великих флорентийцев этим слепящим и назойливым светом? Где благородство и возвышенная загадка мрака? Где мудрая и взвешенная глухота тонов, означающая пристойность вкуса? Свет в вашем полотне криклив и раздражает, словно вопли торговцев на Кампо-дель-Фьоре, писать которых тот человек так же очень любит. Ведь признайтесь, что вы, член Академии, призванной хранить благородство вкусов мастеров и публики, подхватили это именно у него!
Джентилески. (задумчиво) Возможно… Однако я…
Кардинал. (мягко, но ощутимо возвышая при этом голос) Синьоры, остановитесь. Цукарро, вы кажется тоже несколько удивлены и скажете свое слово Президента Академии чуть позже, от себя же могу произнести, со всей искренностью, что полотно достойнейшего Джентилески нравится мне именно необычным светом, который сочетается с пристрастиями мастеров начала века, взять хотя бы моего земляка, великого дель Сарте, впитавшего вкусы флорентийцев. Однако, о ком вы здесь говорите?
Галло. (продолжая кипеть возмущением) О, монсиньор кардинал! Имя этого человека не достойно ваших ушей, поверьте!
Кардинал. (чуть более настойчиво и с тонами властности) И всё же?
Галло. (словно исходя возмущением и гневом) Ближе к концу минувшего года в моей мастерской появился молодой, но уже не слишком приезжий. Я принял его, искренне желая дать ему науку, которую кропотливо и долгие годы, опираясь на мудрость великих постигал сам. И что же?! Вы думаете, я познал в ответ не то что благодарность, а хотя бы готовность внимать?! Раз от разу дерзкий наглец принимался спорить, задавать непристойные вопросы, из которых выходило, что писать можно и даже должно не так! Другими словами, придя учиться ко мне в мастерскую, он вел себя так, будто уже постиг всю мудрость и тайну мастерства, которую мы осваивали годами, и собирается поучить ей меня! Однажды мои благородные душой ученики, не стерпев такого унижения учителя, кое-что всё же давшего им, чуть не отдубасили его до полусмерти и спасся он лишь потому, что осмелился вынуть из ножен огромную, времен великого Лоренцо Медичи шпагу, которую вечно таскает с собой, и принялся всем ею угрожать!
Д`Арпино. Говоря по чести, ваше высокопреосвященство, постаравшись быть словно на исповеди откровенным, этот молодой художник талантлив, а дарованная ему Господом кисть умела. Однако, вкусы его, как его нрав и натура, совершенно испорчены кем-то и необузданны, быть может – не воспитаны правильно. И скорее всего именно по причине его необузданности… скандального нрава, который более похож на привычки и страсти корсара или римского бретера, нежели на покорную и служащую Господу трудом душу художника… Он талантлив, но придерживается каких-то диковатых и вульгарных взглядов, его ум человека, который мог бы стать хорошим художником, уже сложился в собственных представлениях, так пока и не воплощенных, ибо он беден, а из мест, где его дают приют и желают научить чему-то, он всякий раз уходит со скандалом. И потому – его ум и талант испорчены, скорее всего даже погублены, ибо сложились конечно же неверно.
Грамматико. (на ухо Джентилески) Смотри-ка – он искренен, как прежде был искренен Галло. И как искренне они пытались научить Караваджо устаревшим вкусам, почитая те за должные вечно сохраняться!
Галло. Д’Арпино, при всем уважении к вам, я не согласен. Нет никакого таланта и художника! Подмастерья – и того нет, ибо подмастерье должен слушать мастера и говорить «грацио», а не пытаться в безумной наглости кого-то учить!
Д`Арпино. Нет, вы не вполне правы… Талант конечно есть, быть может значительный. Однако, достался он кажется совсем не тому – в господню насмешку или чтобы понапрасну пропасть. Кисть его умела, несмотря на возраст, а глаз остер и схватывает вещи. Только вот учиться писать правильно он не желает и ставит дарованное богом на службу таким странным фантазиям, что не знаешь, что и думать. Я поручил ему дописывать фрески моей руки. А что? Я сам во времена оные занимался подобным чуть ли не три года! И что же – он в раздражении взял покунок и ушел через каких-то полтора месяца, бросив мне на прощанье вместо благодарности, что состарится на этой чепухе раньше, чем успеет написать хоть что-нибудь стоящее.
Галло. (вторит с гневом) Да кто он таков?! Нет, вы только вдумайтесь синьоры! Я поручил ему делать копии со старых фресок – кропотливый труд, который требует ума, умения и отдачи, а ему вишь ли это пришлось не по нраву и он сбегал на Тибр, рисовать выгнутые зады и почерневшие от грубой жизни лица грузчиков на фелуках! Да еще умудрился увести от меня и совратить с истинного пути одного весьма достойного и перспективного юношу, который вместе с ним ныне бедствует и скитается, губит себя зазря, обольщенный глупостью!
Кардинал. (с искренним интересом и усмешкой) смотри-ка, как разошлись и взъерошились!
Д`Арпино. Вы правы, учиться он не хочет, более норовит учить.