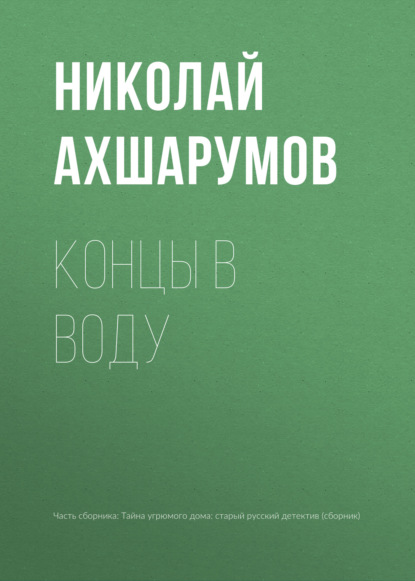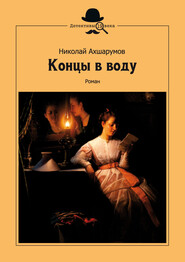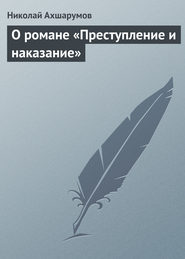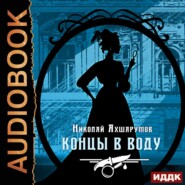По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Концы в воду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какая уж красота?
– Не говори пустяков, пожалуйста, и не прикидывайся, что ты меня не понимаешь. Я у тебя серьезно спрашиваю: разве есть какая-нибудь возможность для женщины, которая уважает себя хоть на грош, смириться с такой унизительной оценкой?.. Молчишь?.. Хоть постыдилась бы!.. Ольга! Я, право, тебя не узнаю… Куда ты девала свою девичью гордость, свои убеждения? Или это так, просто – бабство, и ты кривишь душой в его пользу? Если так, то мне незачем было и ездить сюда!
– Незачем? – повторила она.
– Не обижайся… Я говорю так грубо потому, что иначе с тобой ничего не поделаешь. Тебя надобно пристыдить хорошенько, чтоб ты опомнилась и убедилась в своей ошибке. Без этого нет никакой надежды ее исправить.
– Мое несчастье невозможно исправить.
– Да, если ты будешь ждать, что он разнежится и вернется. Признавайся, ты этого только и ждешь?
– Нет.
– Ольга, ты или лжешь, или, чтобы спасти свое самолюбие, играешь словами… Ну, я, пожалуй, выразился не так; пожалуй, не ждешь в собственном смысле, но все же желаешь?
Молчание… Мы сидели с минуту потупясь; она вертела в руках конец платка, наматывая его бахрому на пальцы. Я начинал уже терять надежду узнать что-нибудь далее.
– Что же мне делать, – произнесла она наконец чуть слышно, – если я еще люблю его?
Это поставило меня совершенно в тупик… Что – в самом деле? Что делать, если она его любит еще?.. Я однако же не хотел дать ей заметить, до какой степени этот ответ обезоружил меня.
– Надо понять, мой друг, что это ошибка, – отвечал я нравоучительным тоном.
– Ошибка – что?
– Твоя воображаемая любовь к Павлу Ивановичу. Ты любишь собственно не его, а свою фантазию. Тебе представляется человек совсем не тот, не такой, какой он действительно есть.
– Отчего не такой? Почем ты знаешь?
– Я знаю его.
– Ну, а если ты ошибаешься?.. Ведь это возможно? Он, может быть, совсем не так виноват. Я, может быть, сама виновата?
– В чем?
Она молчала. Слезы катились у ней по лицу… Мне стало досадно и жалко.
– В чем же ты виновата, Оля, милая? – спросил я, взяв ее за руку.
Глубокий вздох. Она подняла на меня заплаканные глаза и тотчас опять опустила их…
– Я, может быть, тоже была не та… не такая, как он ожидал. У меня здоровье слабое…
– Какой вздор!
– Да, мне доктора всегда говорили, что я малокровна. Я часто хвораю, бываю не в духе… расстроена. А он не любит этого, ему противно возле больной.
– Животное!
– Ах, нет, Сережа, ты не брани его. Он, право, совсем не такой… Это я уж такая плохая.
– Да отчего же так, Олечка?
– Так… Вот это тоже несчастие, – голос ее задрожал. – Нет детей!
– Разве он жаловался тебе на это?
– Нет.
– С чего же это тебе приходит в голову?
– Мне намекали об этом другие.
– Кто?
– Так… Один человек, который был здесь проездом, как раз перед тобою.
– Да кто такой? Она замялась.
– Я, собственно, не имею права, потому что я слово дала; ну, да ты ведь не выдашь меня… Одна из его кузин, баронесса Фогель.
– Фогель?.. Какая Фогель?.. Я что-то не помню.
– Это одна из Толбухиных.
– И Толбухиных не знаю.
– Да и я тоже не знаю, но слышала. Она живет в Петербурге, и я сама ее не видала прежде.
– Странно!
– Фогель, – повторила она машинально. – Марья Евстафьевна… Она возвращалась из Петербурга в Орел, в свое имение.
– Но с какой стати… она?
– Так, она слышала о моем несчастии и желала со мной познакомиться. Только это секрет… Такая добрая!.. Приняла во мне такое участие!
– Зачем же секрет-то? И от кого?
– От Павла Ивановича. Она боится, чтоб он не узнал через мамашу или кого-нибудь из знакомых, здесь в Р**, что она заезжала ко мне, тем более, что это ей не совсем по пути…
– Постой, как же так? Разве она не была тут у вас?
– Нет.
– Где же вы виделись?
– У нее. Она останавливалась на постоялом дворе и присылала оттуда за мною.