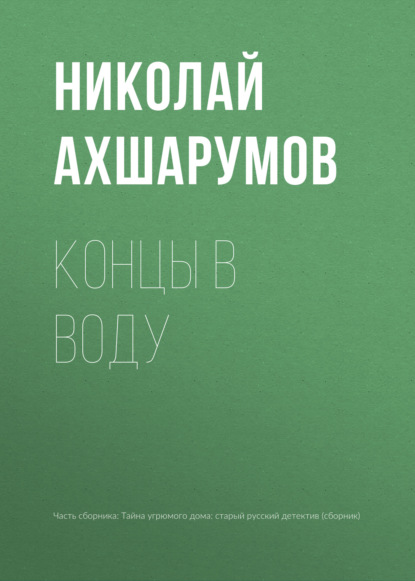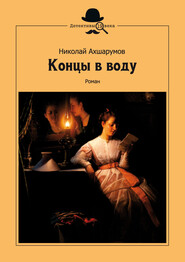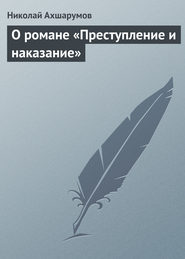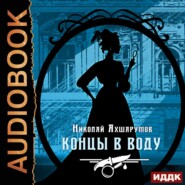По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Концы в воду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Бодягин был… Сейчас, воротясь домой, нашел у себя его карточку и на листе бумаги, особо, несколько слов:
«Любезный друг Черезов! Пожалуйста, не финти с визитами, а, благо уже знаком с моею хозяйкой, приезжай просто к обеду, завтра или когда удобно, к 6-ти.
П. Б.»
* * *
Живет как Ротшильд, этот недавний нахлебник и прихвостень знатной родни, который пять лет обивал пороги у К-ва и был недавно еще в долгу по горло… Теперь квартира в 3 000; шестерка заводских, и буфетчик, и метрдотель, и целая шайка челяди… За обедом была довольно большая компания и между нею знакомые имена, хотя в лицо я почти никого не помню. Невольно думается, что я у них тут напоказ, кузен по первой жене и живой свидетель, что между ее родней есть люди, не ставящие ему в счет того, в чем он ни душою, ни телом не виноват…
К вечеру, впрочем, все это разъехалось, и мы пили чай по-семейному. Она сама разливала. Ее опять узнать было невозможно. Сущий хамелеон! Ни следа недавней холодности: мила, внимательна и любезна. Должно быть, он надоумил… Впрочем, она говорила мало и ничего серьезного, он взял это все на себя. Поздравил меня с удачей, расспрашивал, что я теперь намерен делать, журил за старое и уверял, что пора, наконец, взяться за ум…
– Mieux vaut tard, gue jamais, mon cher![22 - Лучше поздно, чем никогда, дорогой мой. (фр.).]
Время еще не ушло; напротив, оно никогда не было так удобно. Ты попал сюда в самую пору и в самых счастливых условиях. Когда-нибудь я тебе все это объясню… Сколько, бишь, ты сказал, тебе приходится?.. Хо, хо брат! «Только», ты говоришь?.. О! Простота! Да ты что думаешь? Тридцать две тысячи чистых, мобилизированных, так что вот взял, да и вывел в любую минуту, это, mon cher, такая армия, с какою немногие вступают в поход. Это, если им дать надлежащий форс, пойдет за полтораста, за двести… Я не имел ничего подобного. Пять лет назад, когда я сошелся с П** и мы оснастили суденышко, с которого, собственно, и началось мое плавание, знаешь ли, сколько у меня было в наличности?.. 500 рублей.
– Не может быть!
– Клянусь тебе честью, ни гроша более… Правда, я только что перед тем уплатил тысяч 15-ть долгу, из денег П**, разумеется, но это поставило мой кредит в такое цветущее положение, что через полгода мне дали сорок… Слушай, расскажу тебе.
И он рассказал, довольно цинически, как ему удалось встать на ноги. Потом пошла старая песня: как он получил и продал концессию.
– Это было как раз перед нашею встречей, три года тому назад; помнишь, еще обедали у Бореля и говорили об Ольге?
– Помню.
– У меня это осталось в памяти, потому что она… ты знаешь?.. Это случилось скоро после того, в ноябре.
Я смотрел ему прямо в глаза, но не мог уловить его взгляда. – Тебя известили, конечно?
Я отвечал, что получил известие через три недели от Софьи Антоновны.
– Ох уж мне эта Софья Антоновна! Обязан я ей, много обязан!.. Чего они только тут не наплели?.. Ты слышал, конечно? Ну, скажи, ради Создателя, есть ли совесть? Хотя, конечно, о совести нечего говорить, когда у людей в голове нет здравого смысла… Пойдем в кабинет.
Мы пошли в кабинет, а она куда-то, должно быть в детскую… У нее есть дочь, грудной ребенок.
– Много обязан! – ворчал Бодягин. – Много!.. Садись, потолкуем. Я рад, что ты наконец воротился, рад между прочим и потому, что теперь есть хоть один живой человек, которому я могу рассказать по-приятельски все, что я вынес в ту пору… Хочешь сигару?
В кабинете горела одна большая лампа под абажуром, который сосредоточивал свет в небольшом кругу. Мы сели с ним у камина: я боком, а он спиною к лампе. Лицо его было так слабо озарено багровым отблеском кокса, что я не мог хорошо разглядеть выражения.
– Да, – продолжал он, вздохнув, – наделали они мне в ту пору хлопот! Благодаря им и только им одним, я вынужден был показать это письмо, которое прекратило следствие… Ты имеешь понятие, как это было? Постой, я тебе расскажу, только на вот, сперва прочти.
Он достал из стола письмо Ольги, то самое, о котором писал мне Z**. Он не мог ничего хуже выдумать, но об этом после.
– Ну что? – спросил он, когда я кончил. – Ясно, не правда ли?
– Ужасно! – вырвалось у меня. Но он не понял, к чему это относится.
– Да, – повторил он, – ужасно! И тем ужаснее для меня, что я оплошал в этом случае. Я никогда не прощу себе, что отложил это дело. Я должен был ехать к ней в Р** немедленно, добиться, что это значит, и успокоить ее. Только мне в голову не пришло. Я думал, что она так, дурит… Сам посуди: мог ли я верить этому? Мог ли я допустить, хоть на минуту, чтобы она, в здравом уме и в памяти, не только решилась сделать такую глупость, а даже имела ее серьезно в виду?.. Из-за чего? – После я понял из-за чего, но в ту пору я был, ей Богу, во всех отношениях за тысячу верст…
Он замолчал и задумался.
– Она писала тебе перед этим? – спросил он минуту спустя.
– Писала раз.
– Ах да, кстати, скажи, пожалуйста, ты был у нее в последний приезд?
– Был.
– И ничего не заметил?
– Ничего, что могло бы навесть на мысль о подобной развязке. Она тосковала, и я нашел ее очень переменившеюся с лица…
– Ну, а помимо этого и помимо лица, – так, вообще?
– Ничего.
– Странно! А впрочем тебе, конечно, и в мысль не могло прийти. Я сам не мог составить себе никакой догадки, пока не узнал, кто была эта… которую видели у нее за час до смерти и из-за которой вышла вся эта сказка насчет отравы… Потом оно выяснилось… какая-то повитуха…
Я вздрогнул, и это не избежало его внимания.
– Жила сперва в Р**, потом наезжала туда. Когда они познакомились, и чего Ольге нужно было от нее на первых порах, неизвестно. Женщины этого рода имеют часто рядом с открытым их ремеслом два или три другие – тайные. Но есть догадки, мало того, почти доказательства, что этот приезд ее был не первый, и нет никакого сомнения, что Ольга через нее получила яд. Трудно только сказать, когда. Я полагаю: ранее, и полагаю, что женщина эта не ожидала того, что случилось, то есть, или ошиблась в средстве, или рассчитывала, что яд не будет принят, по крайней мере, немедленно; потому что иначе она не сделала бы такого дурачества…; Теперь, надеюсь, ты понимаешь? – сказал он, видя, что я молчу.
– Нет, – отвечал я, – не понимаю. Ты хочешь сказать, что она была…
– Беременна; это почти несомненно. Что ж делать? Я ее не виню. Если бы я знал, я бы ее увез из Р** и дал бы возможность скрыть это.
– Ты шутишь?
– Нет.
– Ну, полно, Бодягин, признайся: шутишь?
– Клянусь тебе честью, нет.
– Но это должно было бы открыться?
– Да, если б ранее не открылось другое. Яд было нетрудно найти, это бросалось в глаза и в нос… Остальное могло ускользнуть от внимания. Впрочем, не знаю; я не читал их протоколов; думаю только, что в них об этом не упомянуто, потому что меня об этом не спрашивали.
– Но как могла повивальная бабка дать яд?
– Не знаю; дала. Может быть, и сама не знала что, потому что они вообще не много знают. А может быть, и знала; да ей-то что?.. Не ей ведь околевать.
– Что же, ее так после и не нашли?
– Ее-то? Нет. Ее, собственно, вовсе и не искали, так как, на первых порах, не знали, кого искать, а потом, когда это письмо стало известно, нашли, что убийства не было, и следствие было прекращено. То, что я сообщил тебе, дошло до меня как слух, которому я, на первых порах, не придавал значения и уже после, доискиваясь на месте, в Р**, до его источников, вынужден был убедиться, что это правда. Все это, само собой разумеется, дознано было негласно, и стоило мне огромных хлопот, не говоря уже об издержках.