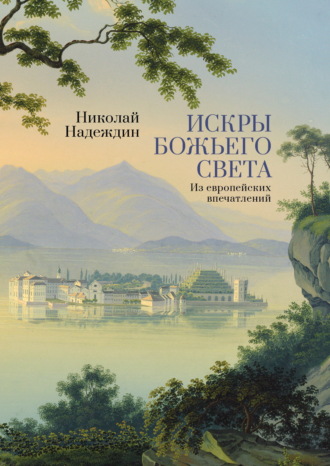
Искры Божьего света. Из европейских впечатлений
И что это за шум? Не стук запоздалого фиакра, возвращающегося с уединенной беседы, проведенной за дружеским вистом; не тихий говор ночных рыцарей, сбирающихся осадить железную решетку окна, не нарушая общественного спокойствия; не громкая перекличка часовых, или звонкий рог ночного сторожа, раздающийся в немецких городах для успокоения честного бюргера. Нет! Это шум жизни, для которой нет сна, нет отдыха. Право, кажется, народонаселение Парижа чувствует невозможность жить в одно время на отведенном ему пространстве; оно разделило двадцать четыре часа суток, и, тогда как одна половина спит, другая живет и движется. Во мраке ночи Париж запасается для дня. Из-под одеяла вы слышите кряхтенье носильщика, перебранки торговок, вопль ребятишек, преследующих фуры, нагруженные съестными припасами. Самый сладкий сон, который по уверению знатоков бывает на заре, прерывается уже пронзительными криками разносчиков. Вслушайтесь в эти последние: что из них выливается громче, покрывает собою все? Это не наше: «По ягоду, по клюкву!», а возвещение афиш, продажа разных новостей! Заметьте это хорошенько: это тон, который господствует в музыке Парижа; им выражается главная стихия, характеристический признак парижской жизни!
Я не смею взять на себя представить вам эту жизнь в ее подробностях, в ее полном развитии. Конечно, отличительное свойство парижской жизни состоит в удивительной гласности, открытости, публичности; она не любит таиться, она вся наружи, вся на лице. Нигде, кажется, не развита менее семейная, домашняя жизнь; нигде нет такой холодности к Ларам и Пенатам. Парижанин живет за дверьми своего дома. Сен-Жерменское предместье, принимающее наименьшее участие в современной парижской жизни, показывает еще некоторый вкус к отшельничеству: там двери заперты булавою швейцара, улицы пусты и тихи. Но не обманывайтесь этим наружным спокойствием: Сен-Жерменское предместье, чтобы сохранить свое достоинство, пол-сутки отдыхает – с тем, чтоб другие полсутки провести также за порогом: на бульваре, за городом, в театре, на бале. При всем том, я бы взял на себя геркулесовский труд, если б вздумал ловить в очерки эту многосложную, эту бесконечно разнообразную, эту чудовищно пеструю жизнь, от которой глаза разбегаются, мутятся. В Париже миллион жителей: и весь этот миллион живет, движется, волнуется по-своему. Есть, однако, некоторые постоянные оттенки, периодические приливы и отливы масс, подчиненных строгой дисциплине житейских потребностей, которые, в неизменяемом порядке сменяя друг друга, сообщают парижской жизни какую-то историческую последовательность, делят парижские сутки на определенные эпохи, отличающиеся своим особым движением, своим особым шумом. Постараюсь изложить здесь в кратком очерке эту стереотипную историю парижского дня, которая повторяется через каждые двадцать четыре часа в том же порядке.
Еще центр города не успеет порядочно заснуть (а он засыпает после полуночи), как в оконечностях начинается самое деятельное движение. При тусклом мерцании догорающих фонарей тысячи возов, нагруженных зеленью и фруктами, тащатся из окрестных деревень, стуча по мостовой тяжелыми колесами. За растительным царством следует животное: коровье масло, яйца, дичь, птицы. Всё это продается и раскупается оптом до свету; в девять часов утра вы уже не встретите ни одной крестьянской фуры на улицах Парижа; даже пестрый рой молочниц и цветочниц перестает порхать по тротуарам со своими кувшинчиками и корзинками. Народ рабочий, мастеровой, поднимается обыкновенно с шести часов утра. Тут начинается механическая жизнь Парижа: наковальня звенит, дерево визжит под пилой, под настругом, на токарном станке, прялка вертится, челнок ныряет в шелку, в шерсти, в бумаге, кирка и резец сражаются с камнем. В то же время и купец открывает свою лавку.
Но еще раньше встает особый класс людей, купцов и ремесленников вместе, которые делают и продают то, чего нет дороже человеку – здоровье! Я разумею жрецов Эскулапа, которые, дорожа утром, разорванным на билеты, с пяти часов отправляются в больницы, где служат; там ожидают уж их толпы молодых аспирантов, чтобы воспользоваться их теоретическими уроками или практической опытностью. Собственно умственная деятельность просыпается позже. Школы и лицеи отворяются в восемь часов: это период студентов. Они слушают лекции до десяти часов, и потом опять собираются в два пополудни. В десять открываются музеи и библиотеки; они всегда наполнены. Жизнь гражданская начинается в одно время с умственною. С восьми часов адвокаты, поверенные, нотариусы принимают своих клиентов; в девять отворяются суды и палаты; в полдень они битком набиты. Но это всё еще низшие слои гражданской жизни; в верхних движение обнаруживается позже. Высшая администрация и высшие расчеты почивают долго. В восемь часов всё еще пусто на улице Вивьен, в конторах банкиров и негоциантов; передние министров и их канцелярии также пусты. С десяти, не прежде, на улицах рисуется и медленная, ровная поступь биржевого агента, и борзая рысь министерского столоначальника. Курьеры, комиссионеры, просители шныряют взад и вперед. В два часа начинаются шумные операции Биржи и шумные прения Палаты депутатов. Тогда гражданская жизнь Парижа достигает своего зенита. В четыре часа всё вдруг прекращается: суды, конторы, присутственные места, канцелярии – всё запирается. Час обеда! Тогда наполняются ресторации, трактиры, пансионы. Процесс питания поглощает всё. В шесть часов театры и другие публичные увеселения, сады, бульвары, гулянья, кофейные дома наполнены! Все ремесленные работы прекращаются в восемь часов. Зажигаются фонари, лавки освещаются газом. Всё горит и кипит. Позже всех начинает жить Пале-Рояль. Наконец, в одиннадцать часов наружное освещение гаснет, лавки запираются. Деловой народ идет спать. Тогда начинается жизнь высшего класса: это время балов! Таким образом, по общему закону соприкосновения крайностей, высшее общество Парижа сталкивается в заполуночное время с самой низшей ступенью народонаселения; и раззолоченные кареты, возвращаясь к утру домой, встречаются с фурами поселян, начинающих новый день, новое повторение той же истории.
Но это непрерывное кругообращение есть прозаическое выражение жизни. Наблюдать его любопытно и поучительно; каждая волна парижского народонаселения имеет свою отличительную физиономию; из соображения их можно вывесть множество занимательных результатов. Но всё это, должно признаться, носит на себе печать необходимости; всё это более или менее обще и другим городам, где те же нужды, тот же порядок, то же суточное колесо. Интереснее жизнь в ее поэтическом развитии, там, где она не стесняется никакими внешними условиями, там, где она есть свободная игра, свободное выражение народного духа. И в Париже есть особенный, многочисленный класс людей, которых по всей справедливости можно назвать поэтами жизни. Это так называемые flaneurs[31], которых весьма несобственно можно перевесть русским словом: зеваки![32] В них-то жизнь парижская является во всей своей чистоте; в них-то должно ловить и изучать ее коренную, неискаженную физиономию.
Что такое парижский flaneur, зевака? Известно, что все столичные, даже большие провинциальные города служат притоном для людей, которые, не имея нужды в поте лица приобретать хлеб свой, сбираются туда изнашивать жизнь с возможным спокойствием, удобством и наслаждением. Главный характер этих людей, основание их бытия, есть праздность; главная цель – наполнить чем-нибудь полегче эту праздность! Но везде почти, праздность есть мать скуки, по прекрасной аксиоме детских прописей. И у нас есть праздные, но что они делают? Одни пьянствуют, объедаются, иногда пускаются в ханжество или в разнос сплетней – и скучают; другие ездят в театр, развозят визитные билеты, танцуют до упаду, просиживают ночи за картами – и скучают! Это от того, что у нас праздность не наполняется никаким призраком душевного движения, сопровождается совершенным отсутствием всякой даже пустой мысли, всякого даже фальшивого чувства.
Не таков парижский зевака! Это существо, которое ничего не делает – а мыслит, а чувствует, а живет! Он не смотрит, а глазеет на всё, не слушает, а прислушивается ко всему – и счастлив! Его жизнь наполнена, он вечно занят! Чем? – спросите вы; на это нелегко отвечать одним словом, или лучше, должно отвечать одним словом «Всем!». Но я лучше постараюсь набросать здесь в кратком очерке его жизнь, его поэтическое существование. Разумеется, по многочисленности и разнообразию этого класса парижского народонаселения, есть и в нем разные оттенки. Свои особенности имеет парижский гамен (gamin[33]), который, собрав поутру несколько су от доброхотных дателей, от замаранных башмаков, или от чужестранцев, не знающих города, которым всякий низшей степени flaneur навязывается в проводники – собрав, говорю, насущный капитал на целый день и, следовательно, обеспечив себе целые двадцать четыре часа будущности, беззаботно шныряет по улицам, останавливается при каждой толпе народа, провожает громким смехом каждую уродливую физиономию, каждый брызг грязи с колес фиакра на беленькое платьице гризетки или на запачканные табаком брызжи старого кавалера св. Людовика, одним словом, каждое уличное приключение.

Поль Гаварни, «Фланёр», 1842 г.
Свои напротив причуды у ветхого жителя Инвалидов[34], достопочтенного обломка Наполеоновой армии, который на деревянной ноге, с подвязанной рукой, с черной тафтой на лице бродит по Парижу день-деньской, останавливается пред колонной Вандомской с благоговейным умилением, слезящими глазами смотрит на арку Звезды, хвалит старое время и клянет сквозь зубы всё новое; или у счастливого обитателя бистро, который, владея полным умом и наслаждаясь совершенной независимостью, сушит на солнце табачный платок, чертит палкой затейливые арабески на песке, или водит любопытного путешественника по своему жилищу и рассказывает ему по доверенности, на ухо, о привезенной ночью карете с шестью неизвестными, которые вон там, в пятом этаже, где окна с железными решетками. Я возьму среднюю ступень на этой обширной лестнице и расскажу вам жизнь поэта-зеваки, у которого есть тысячи три франков годового дохода, который живет на улице Сент- Оноре, берет полный обед у Вери[35], ходит в Оперу и в Итальянский театр[36], имеет билет в Палату депутатов[37].
Просыпаясь часов в семь и сделавши туалет, он идет в ближний кабинет чтения или, если погода хороша, и недалеко, в какой-нибудь публичный сад, освежиться воздухом и прочитать утренние газеты. Здесь распоряжает он, по указаниям афиш, всею бесконечностью дня. Если в Уголовном суде назначено слушанье какого-нибудь любопытного дела вроде процесса Ла Ронсьер[38], или Исправительная полиция объявляет о богатой добыче воров, бродяг и мошенников, собранных на улицах Парижа, он отправляется в девять часов в Палату судебных мест (Palais de Justice), не забыв мимоходом взглянуть на Моргу[39], где выставляются мертвые безымянные тела. Если заседания еще не начались, или слушаются дела не очень интересные, скучные интермедии, которые дают сначала для съезду, он прохаживается по длинной зале Теряющихся шагов (salle des pas perdus), кланяется с знакомыми адвокатами, вступает с ними в разговор, взвешивает дело и предугадывает заключение трибунала. Когда нет ничего интересного по части судебной, он отправляется в другие публичные места, открываемые для всех с десяти часов, в каждый день недели поочередно: в Луврскую или в Люксембургскую галерею, в Библиотеку, на лекции известных профессоров. Нужды нет, что он всё это видел, что ему нет никакой охоты брать уроки. Он знает, что здесь встретит много людей, заметит различные физиономии, услышит много разных речей, каламбуров, анекдотов, новостей. Всё это дает пищу его размышлению и обогащает запасом для рассказов. Сверх того, везде есть тьма людей невинных, провинциалов, или и вовсе иностранцев, жаждущих просвещения; он предложит им свои услуги, поделится с ними всем, что сам знает и чего даже не знает, будет для нас самым радушным, самым поучительным чичероне. В двенадцать часов – завтрак в кофейном доме, и потом десерт из нечитанных журналов, преимущественно литературных. К двум часам – новое путешествие: или в Бурбонский дворец (Palais Bourbon)[40], послушать шумных прений депутатов, полюбоваться громозвучной речью Одильона Барро[41], запальчивым криком Сальверта[42], грубыми сарказмами Арраго[43], насладиться замешательством Персиля[44] и проклясть холодную, непоколебимую твердость Гизо; или в Ботанический сад (Jardin des Plantes), потолкаться у решеток зверинца, взглянуть еще раз на прогуливающегося жирафа, подразнить русского медведя, выкидывающего разные штуки на дереве; или в Биржу, посмотреть на прилив и отлив курса, на ломку и трескотню волнующихся капиталов, на весь этот гигантский банк, где миллионы лопаются, как ракеты; или наконец, если в душе нет потребности сильных движений, если для разнообразия хочется ей тишины, уединения, чего-то буколически-идиллического, то в Тюльерийский сад, который к тому времени наполняется самыми прелестными картинами семейного счастья, бесчисленной толпой детей, окруженных нянюшками и мамушками, вооруженных веревочкою, мячом, воланом, обручиком – всеми этими забавами резвого, невинного возраста.
В этом последнем случае, наш герой имеет еще ту выгоду, что избавляет себя от труда спешить сюда же к четырем часам, что необходимо; ибо в это время в Тюльерийский сад сбирается высшее общество, beau monde Парижа. Решетки у въезда улицы Риволи загромождаются блестящими экипажами; аллеи и террасы пестреют всею роскошною весной новых мод. Летом, конечно, лучшие цветы парижского общества уносятся за город, и там распускаются на чистом воздухе, под тенью Булонского леса; но для Тюльери всё еще остается довольно! Здесь постоянный приют фашионабля[45], у которого не хватает на тальбюри[46], амазонки, которой жестокая судьба отказала в верховой лошади; сюда стекаются пешеходный дендизм и кокетство в наемной карете.

Неизвестный художник.
Вид Тюильри с высоты птичьего полета, 1848 г.
К пяти часам сад нередко разнообразится другою, менее шумною, но зато более величественною картиною, которой суровая важность отливает весьма резко на этом живом, пестром, блестящем грунте. Депутаты, окончив заседание, по большей части заходят сюда продолжить свои прения, излить негодование, сорвать сердце, приготовиться движением к спокойствию, так необходимому для обеда. Наш герой преследует их любопытными взорами, вслушивается в их речи, угадывает по лицам волнующие их мысли, делает соображения, и потом – сам идет кушать!
Я не буду описывать его обеда, в котором он следует свободному выбору желудка, или предается самовластию ресторационной программы, смотря по обстоятельствам. После обеда он отдыхает за карикатурными журналами, так способствующими пищеварению, или с внимательным участием наблюдает за партией домино, шахмат, если, разумеется, сам не играет. Всё это неприметно доводит его до часа спектаклей. Тут он может выбирать, что ему угодно. В Париже столько театров, и каждый из них имеет свой особый род зрелищ, эффектов, впечатлений. Хочет он понежить слух классической мелодией Расина[47], перенестись мечтами в прошедшее, видеть спектакль осьмнадцатого века во всей его пышности, на фижмах и в париках, с косами и с мушками? Он идет во Французский театр[48]. Хочет ужасов, крови, прелюбодеяний, убийств, кровосмешений, зажигательств, всей этой мрачной фантасмагории девятнадцатого века? Отправляется к Воротам Сен-Мартенским или в Амбигю-Комик[49]. Хочет посмеяться от души, послушать острых куплетцев и эпиграмм, похлопать язвительному намеку на события прошедшего утра, посмотреть фарсов и гримас? На это есть Водевиль[50], Варьете[51], Пале-Рояльский театрик[52]. Наконец, если люди ему надоели, и он жаждет зрелища безмолвного и бесстрастного, но тем не менее ослепительного, великолепного, он может идти в Олимпийский цирк[53], к Франкони, где актеры о четырех ногах, с гривами и хвостами. Коротко сказать, в театрах Парижа он находит каждый вечер всё, что нужно для предохранения себя от скуки, для занятия. Разумеется, если погода хороша, и он предпочитает свежий воздух духоте театра, он может остаться в Тюльерийском саду, где гремит музыка, или отправиться в Тиволи[54], слушать болтовню арлекинов, смотреть великолепный фейерверк. Я не говорю уже о других мелких зрелищах: диорамах, косморамах, георамах[55] и других бесчисленных «рамах», которыми наполнены все углы Парижа.
Но спектакль не есть еще окончательный подвиг, за которым следует успокоение. Возвращаясь домой, он заходит еще в Пале-Рояль, посмотреть на бьющий фонтан, прислушаться к речам, а пуще всего прочесть вечерние газеты… Так проходит целый день поэта-парижанина; на другой то же повторяется, но с разнообразием, с периодическою последовательностью занятий. Парижа достанет не на одну, на две недели, чтобы пройти рундом по всем его любопытным местам, а две недели не шутка! Сверх того, журналы, насущная пища зевак, неистощимы в новостях; они выдумывают их в случае недостатка. И потому парижский зевака всегда имеет занятие, предмет для мысли, для рассказа, для спора (если запальчив); всегда весел, и никогда не скучает!
Теперь, если по этой совершенно пустой и между тем всегда наполненной жизни, определить, в чем состоит основная стихия парижского быта, что служит воздухом и питанием для всей этой огромной, разнообразной массы, живущей на улицах, спящей только дома, не знающей семейных наслаждений, не дорожащей гражданскими обязанностями, жадной к рассеянию и забавам, суетной, живой, легкомысленной, праздной, но не бездейственной, не бесчувственной, не поглощенной одними физическими потребностями, чуждой немецкой флегмы, английского сплина, голландской расчетливости, итальянского безмыслия, славянской беспечности, испанского фанатизма; смело можно отвечать: «Газеты, газеты и газеты!».
Отнимите эту кипу листов, выходящих ежедневно в Париже, рабочее народонаселение его не будет иметь над чем отдохнуть, зеваки – чем заняться. Парижанин без газет не сумеет распорядиться своим днем, не знает, куда пойти, на что посмотреть, во что одеться, о чем поговорить, где даже позавтракать и пообедать; без газет он умрет в антракте великолепнейшего спектакля, его желудок не сварит самого вкусного блюда. В Риме народ требовал: «Хлеба и зрелищ!». В Париже общая потребность, общая нужда, общий крик: «Хлеба и газет!». Какое житье ресторантам и журналистам!
2.Всем известно, что Франция существует в Париже, что Париж есть голова, которою мыслит, сердце, которым чувствует Франция. Но отчего это? Одно титло столицы не может дать такой важности городу: столица есть в каждом государстве Европы, но нигде она не поглощает в такой степени, как Париж, всей деятельности государства, всей жизни народа. Причина тому находится, во-первых, в тесном единстве всех частей, составляющих Францию, во-вторых, в исключительной единственности Парижа как столичного города Франции. В Германии и Италии, разделенных на множество независимых государств, разумеется, не может быть одного центрального города, который бы сосредоточивал в себе все богатства германской и итальянской народности. Британские острова в политическом смысле составляют одно государство; но это государство слагается из трех соединенных королевств, а каждое из этих королевств имеет свою особую народность, свои нравы и обычаи, свой язык, свои предания, свою столицу.
Конечно, ни Эдинбург, ни Дублин не могут идти ни в какое сравнение с Лондоном по обширности и богатству, силе и политическому значению, но это не мешает Эдинбургу и Дублину быть средоточиями шотландской и ирландской народности, не мешает им состязаться с Лондоном в самобытном развитии мысли, в самобытной философии и литературе, где особенно Эдинбург с давних времен играет роль важную, блестящую. Я не говорю уже об огромных колониях Британии в Азии и Америке, где отношения к митрополии, вследствие такого ужасного расстояния, такой резкой разности во всех условиях жизни, натурально должны быть очень слабы, куда физически не может достигать пример и влияние столицы.
Но во Франции совсем другое дело. Нынешняя Франция есть целое самое плотное и связное, самое однодушное и однообразное. Все провинциальные различия, остававшиеся в ней от Средних веков, теперь сглажены, уничтожены; если в некоторых уголках существуют еще остатки отдельных племен, сохраняющих свою самобытную народность, эти остатки так малочисленны в сравнении с общею массою, так ничтожны умственной жизнью и так давно отучены от политической независимости, что их и не приметишь в целой Франции. И в этой-то однородной массе, уже несколько веков говорящей одним языком, имеющей одни идеи и потребности, одни предания и верования, одну умственную, нравственную и художественную жизнь, в этой, говорю, массе только один город имеет все права и преимущества столицы, только один город возвышается колоссально над всеми и огромностью народонаселения, и сосредоточением всех нитей правительства, и совмещением всех способов к образованию, всех побуждений и средств к развитию жизни. Самое географическое положение Парижа удивительно как способствует к его центральному влиянию: он находится не на краю Франции, а почти в ее средине; тридцать миллионов французов рассеяны вокруг него, и никакие физические преграды, ни горы, ни степи, не затрудняют сношений их с ним по радиусу, которого самая большая длина не простирается и на тысячу верст. Вот почему Франция вся в Париже, вот почему Париж всё для Франции!
Не только в политических переворотах, но и во всех отраслях жизни, в науках, в художествах, в литературе, в промышленности, даже в наречии и выговоре, даже в покрое платья и прическе волос, Париж имеет безусловный авторитет для Франции, дает законы, которые везде исполняются беспрекословно и безропотно. Всё, что может располагать средствами или чувствует призвание, всё, что имеет полный карман или полную голову, спешит в Париж растрясти первый и пустить в ход последнюю. Провинциальные города, между которыми есть много и больших, и богатых, и образованных, каковы, например, Бордо, Лион, Тулуза, Марсель, несмотря на превосходство местоположения, здоровье климата, живопись окрестностей, все они считаются ссылкою, пустынею, Сибирью! Французы, обязанные жить в них недостатком средств или делами службы, обращаются к Парижу, как магометане к Мекке.
Я помню, что в Бельфоре встретил я молодого врача, которого всё наслаждение состоит в том, чтобы всякую свободную минуту приходить в гостиницу, где останавливаются дилижансы, и освежать себя разговором с путешественниками, едущими из Парижа. Наше знакомство с ним продолжалось только полчаса, но в эти полчаса мы, пассажиры дилижанса, несмотря на то, что все были чужестранцы (один англичанин, двое немцев, двое швейцарцев, и я русский), сделались поверенными всего негодования его на провинциальную жизнь и всего энтузиазма к Парижу, выраженного с задушевным красноречием. «Что мы здесь? – говорил он, стуча по столу. – Китайские тени фонаря, который движется в Париж!». И однако молодой человек родом не из Парижа, следовательно, не мог получить к нему привычки; да и Бельфор городок прекрасный, с отличным обществом из офицеров, занимающих крепость, городок почти швейцарский, перед лицом Юры, не больше, как в трехстах верстах от Парижа, следовательно, не какой-нибудь наш Устьсысольск или Стерлитамак. Это было не личное чувство, вынужденное особыми обстоятельствами, но выражение общего народного сознания, что Париж есть средоточие Франции, что Париж есть вся Франция!
И действительно, в Париже сосредоточено всё, чем живет, чем дышит эта нация, считающая себя законодательницей просвещения, образованности, вкуса. Возьмем, например, ее литературу, так славную, так громкую, так соблазнительную своим примером, так ужасную своим могуществом! Литература французская вся в Париже; там ее горнило; там все ее корифеи, наполняющие мир шумом своих имен. Нигде провинциальность не находится в такой решительной несовместности с репутацией, с авторитетом, со славою, как во Франции. Вне Парижа нет достоинства, нет таланта, нет литературы! И вот почему вся французская словесность есть выражение не Франции, а Парижа, не народа, а столицы. Что некогда Буало предписывал в своей «Науке стихотворства» как необходимое правило поэтам:
Connaissez la cour, etudiez la ville![56]Знакомьтесь с двором и изучайте город!– то самое исполняется и ныне в буквальном смысле французскими литераторами, только вместо «сопг» надо поставить «гпе», вместо «двора» – «улицу, площадь». Тот же шум, та же бурная, кипящая деятельность, та же ослепительная пестрота, то же суетливое, неугомонное движение, которое поражает вас в Париже, господствует и в литературе французской. Красоты природы, описываемые поэтами, сняты с окрестностей Парижа, изучены в ландшафтах Со, Медона,

