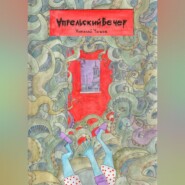По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рябиновый крестик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На университетской аллее они уселись на самой удобной и чистой скамейке и принялись за нехитрый ужин. Надеясь, что сытый семинарист окажется покладистее голодного, Петр зашел на второй круг:
– А все-таки как так вышло, что ты, старовер, оказался в богословском вузе никонианской церкви? Как твои родители к этому отнеслись? Я слышал, у вас строго с этим.
Во времени и пиве было дело или в чем-то другом, увиливать Никита не стал. Ответил ровно:
– Непросто, конечно, пришлось. Мать умерла давно, при родах. А батя… не сказать, что меня прям проклял, но недоволен был… Он думал, я в плотники пойду… а я в попы, да еще в щепотники… – Он запнулся и скомкал фразу. – Но потом помирились как-то.
– Мои соболезнования, – выдавил Петр.
–Ты про маму? Ничего. Меня бабка воспитывала, та тоже уже к Богу отошла.
Во второй раз с соболезнованиями Петр не полез.
– А сейчас ты как общаешься со знакомыми староверами? Они что насчет выбора профессии думают?
Никита пожал плечами.
– А не с кем общаться. И некому думать. Община была небольшая, после смерти последнего старца все разбежались, может, в город кто подался, к поповцам. Батя, возможно, общается с кем, но я насчет этого ничего не знаю.
– К поповцам? Постой, постой, – спохватился Петр. – А ты из какого согласия?
Лицо Никиты на миг стало наивным и беззащитным, как у зайца из «Ну, погоди». В голове Петра мелькнула мысль: наверное, это и есть его истинное лицо, без забрала подвижника и ревнителя благочестия. Простое лицо – деревенское, мальчишеское.
Никита потер переносицу.
– У нас незарегистрированная община была. Беспоповцы. Вели свое начало от Выговского общежития. Но насколько это точно, непонятно. Слишком давно дело было. Батя говорил, приехали из Перми в Калугу. В Пермской области община сложилась из беглых и солдатских вдов. До тридцатых годов жили там, потом пошли аресты, конфискации – и народ побежал.
Выговское поморское общежительство в Карелии было чуть ли не основным центром беспоповского старообрядчества на протяжении трех веков. И если изолированная община Никиты действительно происходила оттуда, его ценность как информанта кратно возрастала. Уникальная возможность заглянуть вглубь истории – такое и впрямь тянет на кандидатскую. Начиная с указа Наркомзема 1921 года «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей» до репрессий 1929 года у старообрядцев был «золотой век», что также согласовывалось с историческими знаниями Петра. А вот профессиональный выбор Никиты ни в какие рамки не укладывался, что-то было тут не так.
Петр глотнул пива, и хмельная горечь защипала язык. Надо попробовать зайти с другой стороны.
– Беспоповцы, значит… ага. Старообрядец-беспоповец учится на никонианского священника. Ты часом не коммунист? Для полного комплекта.
– Я понимаю твою иронию, – не повелся Никита, – но поверь, на то есть причины.
– Расскажешь?
– Может, и расскажу.
Петр шумно выдохнул.
– Ладно, проехали. Что ты там говорил про Калугу?
– Община туда перебралась. Я родился и вырос уже в Калужской области.
Перед мысленным взором Петра развернулся атлас автомобильных дорог СССР со знакомым контуром этой самой области. Не Сибирь – негде, даже близко, не спрятаться. Чтобы их общину при советской власти и оккупации не нашли или в покое оставили, верилось с трудом. Расстояние между деревнями – несколько километров, не больше. В Боровске, где была замучена боярыня Морозова, продолжала существовать поповская старообрядческая община, но Никита рассказывал о чем-то совершенно другом. Даже если в общине состояло человек сто, шила в мешке не утаишь.
– А где вы жили-то там? Прям в лесах скрывались?
Непостижимым образом Петр ухитрялся пить, жевать и говорить одновременно. Никита же рассказывал монотонно, подбирая слова, ухватив руками скамейку и совсем забыв, кажется, про семечки и пиво.
Стояла на юге области в глухой тиши небольшая деревня, в которой они и поселились. Про жизнь после революции и в военное время толком ничего известно не было. Конечно, о чем-то поговаривали, передавали из поколения в поколение – люди всегда обсуждают то, чего никто из них не видел. Раз правды никто не знает, значит, ее знают все. Но то были своего рода изустные предания, где быль и небыль настолько тесно переплелись, что уже невозможно было отделить одно от другого.
Община якобы существовала подпольно, не была зарегистрирована ни при царе, ни при советской власти. Объяснялось это прагматически: чтобы налогов безбожникам не платить. Жили землей, извозом, промыслами, пчеловодством. Продавали что-то на сторону или меняли. Человек двести с детьми и стариками. Все, кто мог работать, работали, Богу долг отдавали. Так и говорили: «Работа – свята, душа – богата». От каждого по-своему зависела жизнь общины: кто ткал, кто рыбу ловил, кто охотился, кто обувь тачал. Для всех. Все за всех были. Круговая порука объединяла людей не хуже цемента.
Военные и послевоенные годы были самые тяжелые. Как выразился Никита, «пой песни, да не тресни». Еды не было. Молитвой питались. Люди голодали, добавляли в муку толченую солому и сосновую кору да коренья какие-то, чтобы выжить. Боровские поповские старообрядцы знали о беглой общине и помогали кто чем мог. Выжили, конечно, не все. Много народу перемерло от голода и болезней. К врачам ходить не могли, официально работать – тоже, паспортов не было, да и не доверяли общинные никому. Скольких тогда Бог прибрал, никто не знает: записей не велось, все похороны – тайные, холмик-могилка и надпись на дощечке неразборчивая. Говорили, старец Филипп вел «синодики», списки имен умерших. Только списков этих в глаза никто не видел.
Филипп был единоличный глава общины. По словам Никиты, его безмерно уважали и даже побаивались. Перед внутренним взором Петра представал образ строгого высокого старика в холщовой рубахе, будто вырезанного из двухсотлетнего дуба. Раз в неделю все приходили к нему и исповедовались без утайки. Филипп давал наставления, решал конфликты, благословлял на брак, его слов для этого было достаточно.
– Поговаривали, – шептал Никита, – что, когда кто-то в общине стал ему перечить, старец сказал пару слов, и охальник больше рта не раскрывал до конца жизни: язык отнялся. Только мычал, горемыка. Все об этом знали, все помнили.
Семья Никиты жила в пятистенной избе с земляным полом, спали все вместе в одной горнице. Вставали ни свет ни заря – и все время были чем-то заняты. Весь день был расписан по минутам. То душеспасительные книги читали, то снасти чинили, то по хозяйству прибирались. Никиту, как ходить начал, стали приучать к посильной работе. К шести он уже помогал в огороде, возил из лесу дерн, а с берега глину, доил коров, сгребал сено, ездил за водой на реку, кормил скотину. Время на игры и баловство было тоже, но совсем немного. Детей воспринимали как взрослых, как со взрослых и спрашивали – и иногда жестоко били за провинности.
– Сидишь, бывало, в углу избы, дышать боишься. Жизнь тяжелая была.
Когда недужный дед совсем слег, а вскоре и отошел к Богу, Никитин отец стал главой семьи, и работы лишь прибавилось.
Слушая Никиту, Петр вспоминал свое вольное детство на бабушкиной даче, когда он являлся домой только поесть и поспать. Мог проваляться в постели до обеда. А самым страшным наказанием было оставаться на участке полоть грядки или собирать смородину. День-деньской он проводил в лесу с друзьями. Ребята играли, строили шалаши, пекли картошку – и были сами себе хозяева. Никто работать не заставлял. Как же эта жизнь отличалась от той, что описывал ему новый знакомый!
На вопрос про отношение властей к общине Никита дал странный ответ. Отношение к ней… менялось. Со временем. Власти то устраивали гонения, то делали вид, что староверов вообще не существует, то обращались к ним за помощью. Порой казалось, что невидимая сила оберегает староверов от преследований. Преподобный Лаврентий Ветковский, великий послераскольный подвижник, например, в день Архангела Михаила чудесным способом отвел глаза карательному отряду. Он вышел к большому дубу, встал и принялся под ним молиться. Солдаты его не увидели. Подобного рода чудеса постоянно происходили и в их общине, по крайней мере, пока старец Филипп был жив. Вроде чуть ли не вплотную энкавэдэшники и подобные им преследователи к людям и деревне подходят, а ничего не видят. Архангел глаза отводит.
Петр знал эту историю. И что преподобный Лаврентий молился под дубом, а не под небом или перед иконой, отмечал и ранее. В этом ему виделись отголоски чего-то более древнего, чем древлеправославная вера. А Никита, похоже, искренне верил в правдивость житийной истории.
«Наивняк», – усмехнулся про себя Петр.
– Говорят, кто-то пригласил нашу общину под Калугу, – вернулся Никита к материям более прозаическим. – Может, поповцы. Позвали не просто так. Народ у нас был честный, крепкий, работящий. Алкоголь и табак под запретом. Как говорится, всякое бремя с маково семя было. Идеальные работники. Знай себе молятся да работают.
Веками гонимые люди умели выживать. Поднимали экономику края, животноводство. После войны везде была разруха, рук не хватало. И советская власть соглашалась мириться со старообрядцами. Сложилась договоренность: вы работаете, а мы вас не трогаем.
– Как в том анекдоте: вы им монахов на субботник, а они вам пионеров в церковный хор, – хохотнул Петр. – Так?
– Не было у нас монахов. Разве что старец Филипп, – насупился Никита.
– А глава общины, – поинтересовался Петр, раз уж разговор вернулся обратно к старцу, – он один был?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: