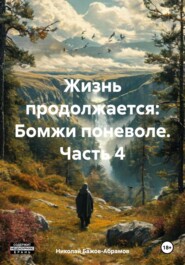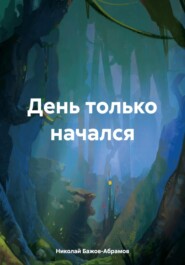По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь продолжается. Часть первая
Год написания книги
2024
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С Васькой, сыном, видишься? А Оля, рябая, еще жива?
– Фу, ты, Нинка, оказия ты, сердита нынче,– кричит он, дернувшись на бревне. – Видимо, хотел привстать, а силенок своих не рассчитал, остался сидеть, виновато отмахнувшись рукою. Да и, неприятно ему, это слышать сейчас, когда уже и сил нет сопротивляться, как раньше; старость – не радость, да и не это его сейчас беспокоило. Старость, ясно, понятно. От этого не спрячешься, не выйдешь из очереди покурить. Там, если, и вышел из очереди… Можно, конечно, заново и в зад пристроится. А нет, потрепал языком стоящими, напомнить можно, за кем прежде стоял; а в оправдании еще, смачно высморкнуться, зажав нос двумя пальцами. А мокроту пальцев, затереть на рукаве шубейки; а тут старость, не выйдешь покурить на крыльцо сельмага, потому у старости нет перекуров. Сам же, оставаясь один на один, любил уничижительно говорить о себе в третьем лице:
«Прожили вы жизнь, Иван Михневич, скажу, дурно».
. А Нинке, что он скажет сегодня? За телеграмму, шкалика ей бы купить ему, но, видать, Нинка, не догадывается. Остается только, тяжко вздыхать выброшенными деньгами на ветер за телеграмму, да, дымить толстенную из вырезки газеты, склеенную слюнками цигарку. А сказать, Нинке, все же надо. «Суровая на словах, а права она в своих суждениях. Что ж ей ломаться перед нами»,– думает он, провожая тоскливо Матвея Лаврентьевича дочку, представившего третьего дня назад. Сам же хоронить ходил со всеми. Потом долго, когда все ушли, стоял на коленках у свежей могилы, шептал, вымаливал у Матвея Лаврентьевича, проценты прощения.» Все ж нельзя, много их было в долгой жизни». Невольно он заскрипел, а получилось, как пожевал, бледными деснами, зубов уже не было, стрельнул нехорошо, косыми глазами в сторону Михайловича, выплывающего, как по перегону реки, на фоне чернотой выцветшей, и гниющей стенки дома.
«Сплыл? Ешкина корень». – А Нинке успел все ж крикнуть вслед. – Инженер он, на – фик. В районе… в Нурлате…он. – И не удержался, как в молодости. – а волосы ты, Нинуль, больно высветила. Русые волосы у тя, знамо, к лицу было. – Сестра смеется, а в голосе у нее все та же грусть.
– Поковылял следом. Мерзавчика выпросить до пенсии у Фариды. Расстроила я его своим упоминанием о Ваське сыне.
Расстроила, конечно. Прожил он, действительно, никчемную, можно сказать, жизнь. Кого за это винить? Власть? Или время такое было тогда? Помнит он. После семилетки (а в деревне тогда только семилетка была), денег у родителей не было дальше его учить. Дальше уже, платно было в другой большой деревне. Затем, захотел механизатором стать, как все мужики в деревне. Но его там не приняли. «Шипко,– «говорили», это его слова,– грамотный…». В железках он ничего не смыслил, потому его даже близко не подпустили, как другим, посидеть, на тракторе, в училище. Отправили назад в деревню пасти лошадей.
– Я при них самый первейший начальник,– теперь хвастался он, обороняясь от ядов шуток местных юмористов.
В его словах, а и правда, явно выделялась грусть, вернее, стыд, что он такой неспособный, как другие его сверстники.
– Вот так они и живут,– вздыхает моя сестра. – Утром мерзавчик, вечером мерзавчик, пока на подворотнях ногу не сломают. Ладно, грустно это, оставим их. А то, что курю, жизнь, видимо, сегодня такая. Я в газете работаю. Журналистом стала, и сразу почувствовала себя второсортным человеком перед этими «элитными» властями, которые учат нас как писать. А о сегодняшней жизни, нельзя, говорят, тревожить понапрасну электорат. Вот и переняла отцовскую привычку, курить папироску. Успокаивает нервы. Семнадцати лет одна, как ты пропал. Устала на маму смотреть, как она, с утра до вечера, тебе письма пишет и складывает в сундук. Подурнела от этого, надоело, плюнула, уехала в этот город, Челябинск, надеясь встретить там тебя. Ты же сюда должен был приехать, братик? Ты где? Семья – то у тебя есть?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: