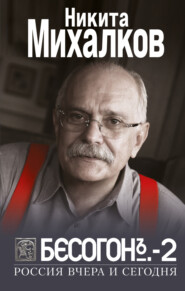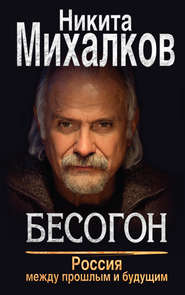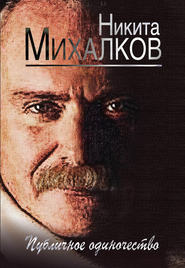По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Территория моей любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В. И. Суриков. Портрет матери, Прасковьи Суриковой. 1887 г.
В. И. Суриков с Натальей и Михаилом Кончаловскими. 1910?е гг.
В. И. Суриков. Портрет дочери, Ольги Суриковой (бабушки Н. Михалкова). 1888 г.
И тут, что самое поразительное, дом меня принял. Я в этом уверен. Он почувствовал, что я свой, успокоился и даже… словно улыбнулся мне. Я улегся на маленькую жесткую кровать своего двоюродного прадеда и провалился в сон. Было шесть часов утра.
В семь меня разбудили, и, странно, я был бодр, абсолютно спокоен и свеж, словно проспал всю ночь. Горячий чай в доме прадеда, с сибирскими шанюшками – и все: не оглядываясь, без всяких сомнений, я «нырнул» в фильм длиной в три года…
Кто такие Кончаловские
Кончаловские – это прежде всего родовая усадьба, которая своей геометрией, видами из окон, всеми запахами и ощущениями вошла навсегда в мою жизнь. Где бы ни упоминалась усадебная жизнь – у Чехова, Бунина, Толстого, Лескова, Гончарова, Тургенева, – я сразу представляю себе планировку дома, в котором жил дед, мастерскую, где он работал, конюшню, сад…
Дом П. П. Кончаловского, деда Н. Михалкова, в Буграх
Кончаловские – это кринка с горячей водой и брошенным на дно куском хозяйственного мыла, по которому мы с двоюродным братом водили кисточками – мыли их, а после протирали скипидаром.
Это хамон – испанский окорок, который готовили сами.
Навахи – испанские ножи, очень острые. Их делал дед из лезвия косы.
Кожаные болотные сапоги, засыпанные овсом, чтобы скорее просыхали. Ведь овес вбирает влагу…
* * *
Дом деда в Буграх, под Обнинском. Там не было даже поселка, а просто стоял дом. Дом и огромный сад, где нужно было иметь «все свое», чтобы жить.
То есть дед мой, художник Петр Кончаловский, жил жизнью совершенно помещичьей – создав свой замечательный, практически самодостаточный мир. Охота на зайцев, на уток…
Там не было электричества (и до сих пор там нет электричества). Керосиновые лампы, куры, свиньи, корова… Запах копченых окороков и антоновских яблок, скрип половиц, постоянный запах краски, ведь дед – живописец…
Вечернее сидение за фортепьяно с керосиновой лампой, когда дед играл Моцарта, читал наизусть Пушкина целыми страницами, пел арии из любых опер. (Он был, я бы сказал, возрожденческого дарования и интересов человек.)
Его огромная рука, в которой умещалась вся моя детская попка, когда он на этой руке поднимал меня вверх…
Художник Петр Петрович Кончаловский, дед Никиты Михалкова по линии матери
Остались запахи, ощущения этого дома. По сути, этот Дом деда – прообраз всех усадеб, которые появлялись затем в моих фильмах. Декорация на все времена!
Хлебосолье, знаменитая «кончаловка», рецепт которой был придуман дедом. Нарезаемый навахой испанский хамон.
До сих пор я чувствую запах тех самых антоновских яблок осенью в том деревянном доме, когда их складывали на зиму…
* * *
Помню, как дед писал мой портрет. Меня ели комары, мухи, но я позировал с детской стойкостью…
Это была естественная жизнь в большом семействе с сильной корневой системой. Я долго не мог понять, почему на меня изумленно смотрит класс, когда я утром честно признаюсь учительнице, что опоздал, потому что Рихтер играл на пианино до трех часов ночи и не давал спать. Я не понимал, что в этом особенного?
Ведь в застольных воспоминаниях у нас такие имена витали, что мало не покажется: Сережа Рахманинов, Паша Васильев…
Велимир Хлебников, по рассказам мамы, спал у нас на рояле, а Маяковского бабушка спустила с лестницы, сказав, что отказывает ему в доме. И все это казалось естественным.
К счастью, дедова дача в Буграх до сих пор осталась за семьей. Там долго жил его сын – художник Михаил Кончаловский. Когда я писал первые из этих страниц, он был еще жив.
Мне повезло с матерью…
С возрастом я все больше стал понимать, какое важное значение в моей жизни имела мама. Не знаю, понимала ли она сама это свое значение для меня. Думаю, нет. А я тем более. Теперь изумляюсь ее мудрости, простоте, покоряющей естественности.
Благодаря моему отцу мама имела возможность жить так, как она хотела, – то есть прежде всего хранить дом и его традиции. Поэтому, к счастью, мы с братом воспитывались в совершенно иных условиях, чем многие наши сверстники.
В нашем доме никогда не было места ярой партийности, столь обыкновенной тогда во многих других семьях, что уберегло нас с братом от «воспитания на ненависти».
Невольно я впитывал все то доброе и созидательное, что несет в себе русская культура… Картины Кончаловского… Фортепьянные импровизации уже упомянутого Рихтера… К нам ходили писатели… А когда-то и Шаляпин захаживал к Кончаловским за компанию с Рахманиновым… Всех их знала моя мама, дружила с ними и называла на «ты».
И все это носило характер естественной ауры.
* * *
Наталья Кончаловская. 1950 г.
Мама на десять лет старше отца. Она никогда не вступала в партию, всегда ходила в храм Божий, у нее был духовник, дома висели иконы. Если возникали «вопросы», отец говорил, обаятельно заикаясь, начальству: «Ну что вы хо?хо-тите, она 1903 го-о?да рождения. Ей уже че?че-тырнадцать лет было, когда революция совершилась!»
Благодаря маме исповедь и причастие для меня были естественной частью жизни. Хотя головой я понимал, что в Советском Союзе это редчайшее исключение, и был очень осторожен. Помню очень стыдную для меня историю, случившуюся на Пасху. Мне было тогда лет двенадцать-тринадцать. В храме ко мне кто-то подошел и тихо на ухо сказал: «Крестимся-то под пиджачком!» Это была правда. Я потом долго не мог отойти от обидного стыда. Хотя вместе с тем было тогда такое сладкое чувство… почти катакомбного христианства.
* * *
Мама учила: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись. Идти надо в узкие врата». Или: «Никогда не выгребай все до конца, чтобы не услышать, как скребок коснулся днища».
Именно эта мысль отвела соблазн после успеха «Механического пианино» сразу снимать опять что-то из Чехова. Хотя уже предлагали. Но, поняв, что использование вчерашних открытий и удачных наработок может превратить их в штамп, мы отказались. К Антону Павловичу мы с Сашей Адабашьяном вернулись, когда остались позади еще четыре киноленты. Только тогда по мотивам «Дамы с собачкой» был написан сценарий «Очей черных».
Еще мама учила: «Никогда не обижайся! Если тебя хотели обидеть, не доставляй удовольствия тому, кто этого хотел, а если не хотели, то всегда можно простить».
Она родила меня достаточно поздно – ей было сорок два года, и я помню ее уже в зрелом возрасте. Но всегда, до последних дней, ощущалась ее гигантская энергия и неиссякаемая любознательность, тяга к новым знаниям и необходимость этим знанием поделиться. Перфекционизм – это у меня тоже от мамы, я до сих пор его не утерял.
Слева направо: Анна и Артем Михалковы с отцом, за ними Татьяна Михалкова, Наталья Петровна Кончаловская, Андрон Кончаловский, за ним – Егор Кончаловский
Мама всегда была стержнем нашей семьи – человеком с мощным, здоровым, созидательным полем. Ее всегда отличала сильная человеческая закваска, основанная на православном воспитании. При этом мама была человеком страстным во всех проявлениях. Это был властный, вспыльчивый (да отходчивый!) сибирский характер – суриковская, дедушкина кровь. Если ей что-то не нравилось, нужно было приложить огромные усилия, чтобы ее разубедить. Только очень смелый, неожиданный поворот мог превратить ее горячее неприятие в столь же страстную любовь, понимание, восхищение…
Я никогда не видел маму ничего не делающей. Никогда!
Ей никогда не бывало скучно. Пишется ли что-то, переводится, правится, шьется, перешивается, вскапывается, сажается, печется, варится, вяжется, настаивается… – всему она отдавалась с невероятной страстью. При этом все, что она делала, было поставлено на основательную, академическую базу – писала ли она подстрочники для оперы или овладевала искусством печь круассаны.
Она лечила гаймориты, делала уколы, даже умела провести тюбаж печени… Узнав что-то новое и убедившись, что это можно сделать без чьей-либо помощи, в домашних условиях, мгновенно все осваивала. Я вспоминаю детские болезни, простуды – все эти компрессы, банки, чай в постель… Как все это обстоятельно, любовно делалось!..
Она обладала колоссальной жизнестойкостью и, где бы ни оказывалась, умела обустроить жизнь по-своему. В больнице ли, в санатории – мгновенно рядом с ней появлялись какие-то дорогие ей шкатулочки, книжки, вязанье, устанавливались свои, родные запахи… Возникал ее мир – ясный, добротный, может быть, не слишком модный, но непременно функциональный, изумительно отлаженный.
Она невольно создавала вокруг себя необычайно притягательную человеческую ауру. Вокруг нее, по самым причудливым орбитам, бесконечно крутились чьи-то невесты, жены, дети, внуки… Дом всегда был полон гостей – художников, музыкантов… Причем это не были «салонные знакомства», но неизменно – друзья.