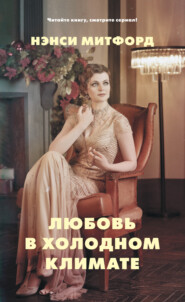По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В поисках любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, меня не тянет, ведь мне в утробе было не очень удобно, знаете ли. К тому же никому до сих пор не позволили там остаться.
– Ты об абортах? – с интересом спросила Линда.
– Ну, во всяком случае, о большом количестве прыжков и горячих ваннах.
– Откуда ты знаешь?
– Слышала однажды, как тетя Эмили и тетя Сэди говорили об этом, когда я была еще маленькой, а потом вспомнила. Тетя Сэди спросила: «Как ей это удавалось?» – а тетя Эмили ответила: «Бегала на лыжах или скакала на лошади. Или просто прыгала с кухонного стола».
– Тебе так повезло, что у тебя порочные родители.
Это была вечная присказка Рэдлеттов. В их глазах мои порочные родители являлись главным моим достоинством. В остальном я была очень скучной маленькой девочкой.
– У меня есть новость, – сказала Линда, прочистив горло, как взрослая. – Она представляет интерес для всех, но особенно касается Фанни. Я не стану просить вас отгадывать, потому что нас вот-вот позовут пить чай, а вам все равно ни за что не догадаться, поэтому скажу напрямик: тетя Эмили помолвлена.
Досты хором ахнули.
– Линда, – с негодованием воскликнула я, – ты все придумала!
Линда вынула из кармана клочок бумаги. Это был, судя по всему, отрывок письма, написанного крупным детским почерком тети Эмили, и пока Линда его зачитывала, я смотрела ей через плечо.
«…не говорить детям, что мы помолвлены, как ты думаешь, дорогая, хотя бы поначалу? И опять же, вдруг Фанни он не понравится? Такое трудно представить, но никогда не знаешь точно, чего ждать от ребенка. Не станет ли это для нее шоком? Дорогая, я не могу решить сама. В любом случае сделай так, как сочтешь правильным. Мы приезжаем в четверг, а в среду вечером я позвоню и узнаю, как дела. С любовью, Эмили».
В чулане достов это стало настоящей сенсацией.
3
– Но почему? – повторяла я в сотый раз.
Я и Линда потеснили в кровати Луизу, Боб уселся в ногах. Мы перешептывались, стараясь не выдать себя. Такие полуночные беседы были под строгим запретом, но нарушать правила в Алконли было безопаснее по ночам, чем в любое другое время суток. Сон одолевал дядю Мэттью практически за ужином. Он уединялся в своем кабинете, чтобы подремать там с часок, а потом в сомнамбулическом трансе тащился в постель, где окончательно погружался в крепкий сон человека, который провел на воздухе весь день, и просыпался только на рассвете, когда наступал час его нескончаемой войны с горничными из-за каминной золы. Комнаты в Алконли отапливались дровами, и дядя Мэттью небезосновательно утверждал, что для сохранения тепла золу следует сгребать в кучу и оставлять до полного остывания тлеть в камине. Горничные же, напротив, по какой-то причине (вероятно, из-за прежнего опыта обращения с углем) постоянно норовили выгребать золу сразу и дочиста. Когда угрозами, проклятиями и внезапными наскоками дядя Мэттью, одетый спозаранок в цветастый халат, убеждал их, что этого делать не следует, они все равно не оставляли намерения всеми правдами и неправдами выгребать каждое утро хотя бы совочек золы. Предполагаю, что таковым был их способ самоутверждения.
Они развернули самую настоящую партизанщину. Понятно, что горничные – ранние пташки и всегда могут рассчитывать на три спокойных часа единоличного владения домом. Где угодно, но только не в Алконли. Дядя Мэттью всегда, что зимой, что летом, поднимался в пять утра и бродил по дому, похожий в своем халате на Великого Агриппу. Выпив неимоверное количество чая из термоса, который он при этом не выпускал из рук, примерно в семь часов дядя Мэттью отправлялся принимать ванну. Завтрак и для семьи, и для гостей подавался ровно в восемь, и опоздания к нему не допускались. Дядя Мэттью не имел привычки считаться с другими людьми, поэтому на сон после пяти утра нам рассчитывать было нечего. Дядя бушевал по всему дому: звенел чашками, кричал на собак, рычал на горничных, щелкал на лужайке привезенным из Канады бичом, что создавало шум погромче ружейной пальбы, и все это – под пение Галли-Курчи[6 - Амелита Галли-Курчи (1882–1963) – итальянская оперная певица.], доносившееся из граммофона, необычайно громкого аппарата с исполинской трубой, из которой пронзительно гремели каватина Розины из «Севильского цирюльника», сцена безумия из «Лючии ди Ламмермур», «Нежный жаворонок» из оперы «Комедия ошибок» и тому подобное, проигрываемое на предельной скорости, отчего звук становился еще визгливее и невыносимее.
Ничто так живо не напоминает мне о моих детских годах в Алконли, как эти вещи. Дядя Мэттью проигрывал их беспрестанно, годами, пока однажды наведенные ими чары не рассеялись. Это случилось, когда дядя наконец поехал в Ливерпуль послушать Галли-Курчи вживую. Внешний вид певицы настолько его разочаровал, что с тех пор ее пластинки замолчали навсегда и были заменены на другие, с записями таких густых и низких басов, какие только можно было найти в продаже. Теперь из граммофона раздавалось:
Страшная смерть ныряльщика ждет,
Когда по глуби-и-и-нам морским он бредет.
Или:
Дрейк плывет на Запад, парни.
Басы, в общем и целом, были одобрены семьей как менее режущие слух и более приемлемые для пробуждения ни свет ни заря.
* * *
– С какой стати ей вздумалось выходить замуж?
– Она не может быть влюблена. Ей сорок лет.
Как все малолетки, мы считали само собой разумеющимся, что любовь – это сугубо детское развлечение.
– Как думаешь, сколько ему лет?
– Лет пятьдесят-шестьдесят наверное. Возможно, она полагает, что недурно стать вдовой. Траур, ну ты понимаешь.
– Может, она решила, что Фанни необходимо мужское влияние?
– Мужское влияние! – воскликнула Луиза. – Я предвижу неприятности. А что, если он влюбится в Фанни, вот будет веселенькая история! Как у Сомерсета и принцессы Елизаветы. Помяни мое слово, он начнет играть в нехорошие игры и щипать тебя в постели, вот увидишь.
– Конечно нет. В его-то возрасте.
– Старики любят маленьких девочек.
– И маленьких мальчиков, – вставил Боб.
– Похоже, тетя Сэди не собирается ничего нам говорить до их приезда.
– Впереди еще почти неделя. Возможно, она еще не решила и хочет обсудить это с Па. Может, стоит подслушать в следующий раз, когда она будет принимать ванну? Ты бы мог, Боб.
Рождество прошло, как обычно в Алконли, на фоне сменяющих друг друга солнечных проблесков и грозовых ливней. Я, как это свойственно детям, выбросила из головы тревожную новость о тете Эмили и сосредоточилась на удовольствиях. Около шести часов утра мы с Линдой разлепили сонные глаза и бросились к нашим чулкам. Главные подарки ждали нас позже, за завтраком, под елкой, но полные сокровищ чулки, подобные аппетитной закуске в преддверии основного блюда, тоже имели свою ценность. Вскоре вошла Джесси и принялась продавать нам то, что досталось ей. Джесси интересовали только деньги, она копила их для побега, повсюду носила с собой книжку почтовой сберегательной кассы, всегда до последнего фартинга знала, сколько на ней лежит, и легко переводила эту сумму в количество дней на съемной квартире. Это казалось каким-то чудом, потому что Джесси была очень слаба в арифметике.
– Как успехи, Джесси?
– Проезд до Лондона и один месяц, два дня и полтора часа в квартире-студии с раковиной и завтраком.
Откуда возьмутся ее обеды и ужины, оставалось только гадать. Каждое утро Джесси изучала в «Таймс» объявления о сдаче квартир. Самая дешевая, какую она пока что нашла, находилась в Клэпхэме. Джесси так сильно жаждала наличных, которые воплотят ее мечту в реальность, что мы были уверены: на Рождество и в день ее рождения нас ждут очень выгодные приобретения. Джесси в то время было восемь лет.
Должна признать, что в Рождество претензий к моим порочным родителям у меня не было. Подарки, которые я от них получала, всегда становились предметом зависти домочадцев. В тот год мать прислала мне из Парижа позолоченную птичью клетку, полную игрушечных заводных колибри, которые щебетали, скакали по жердочкам и пили воду из фонтанчика. Еще в посылке были меховая шапка и золотой браслет с топазами. Притягательность этих вещей лишь возросла оттого, что тетя Сэди сочла их неподходящими для ребенка и во всеуслышанье об этом заявила. Отец прислал мне пони с тележкой. Этот очень красивый и щеголеватый комплект прибыл заранее и до поры был припрятан Джошем на конюшне.
– Так типично для олуха Эдварда – прислать это сюда и создать нам хлопоты с переправкой в Шенли, – проворчал дядя Мэттью. – Бьюсь об заклад, бедная старушка Эмили тоже будет не слишком довольна. Кто, скажите на милость, будет за всем этим ухаживать?
Линда заплакала от зависти.
– Это несправедливо, что у тебя порочные родители, а у меня – нет, – всхлипывая, повторяла она.
Мы уговорили Джоша покатать нас после обеда. Пони оказался сущим ангелом и легко подчинялся даже детям. Линда, надев мою шапку, правила лошадкой. Мы опоздали к началу елки – в доме уже толпились арендаторы с детьми. Дядя Мэттью, с трудом натягивая на себя костюм рождественского деда, зарычал на нас так яростно, что Линде пришлось подняться наверх, чтобы выплакаться, и ее не оказалось на месте, когда он раздавал подарки. Дядя Мэттью, приложивший определенные усилия, чтобы добыть страстно желаемую ею соню, окончательно вышел из себя. Он рычал на всех подряд и скрежетал вставными зубами. В семье бытовала легенда, что он в своей ярости уже стер четыре пары вставных челюстей.
Гнев достиг кульминации, когда Мэтт развернул коробку с фейерверками, которую из Парижа прислала ему моя мать. На крышке значилось: «Петарды». Кто-то спросил Мэтта:
– А что они делают?
Тот ответил:
– Bien, ?a p?te, quoi?[7 - Ну что, пукают (фр.).]
Дядя Мэттью, до ушей которого донеслись эти слова, рассвирепел не на шутку и задал неудачливому остряку первосортную трепку, которой тот, кстати, совершенно не заслужил, так как всего лишь повторил то, что утром услышал от Люсиль. Впрочем, Мэтт считал трепки неким неизбежным природным явлением, никак не связанным с его поступками, и принимал их с философским смирением. Впоследствии я часто задавалась вопросом, как случилось, что тетя Сэди доверила присмотр за своими детьми Люсиль, этому эталону вульгарности во всех ее проявлениях. Мы все любили нашу француженку, она была веселая, живая и без устали читала нам вслух, но ее язык действительно был чудовищным и скрывал убийственные подвохи для неосмотрительно копировавших его бедолаг.