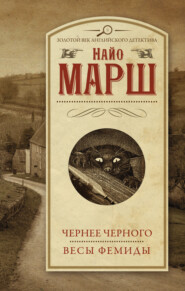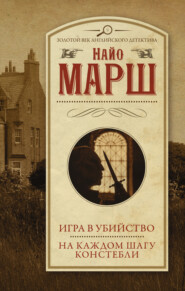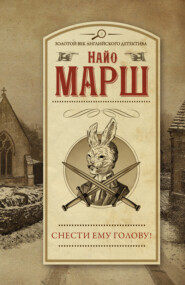По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фотофиниш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все это сделал какой-нибудь американский супердизайнер интерьеров, тебе не кажется? – сказала Трой, отхлебнув коктейль из бренди с сухим мартини.
– Ты считаешь? – спросил Аллейн, передразнивая шофера Берта.
– Считаю, – сказала Трой. – Через ковер нужно пробираться, просто так по нему не пройдешь.
– Это не ковер. Это примерно двести овечьих шкур, сшитых вместе. Местный колорит.
– Мы, конечно, можем сколько угодно хихикать, но давай признаем: все это действительно производит потрясающее впечатление. Но все какое-то нечеловеческое. Вот если бы где-нибудь нашлось что-то потрепанное или неподходящее.
– Мы, – засмеялся Аллейн. – Мы подходим под оба эти определения. Допивай, нам лучше не опаздывать.
Спускаясь на первый этаж, они смогли в полной мере оценить холл с гигантским пылающим камином, с развешанным по стенам смертельным оружием всех видов, с ткаными гардинами в стиле маори и большой полуабстрактной деревянной скульптурой, изображавшей обнаженную беременную женщину с самодовольной усмешкой на лице. Из-за одной из дверей доносились звуки беседы. Один настойчивый мужской голос звучал громче остальных. Последовал взрыв общего смеха.
– Боже правый, – прошептал Аллейн, – да тут собралась целая компания гостей.
В холле стоял смуглый мужчина, относивший в их комнату багаж.
– Прошу в гостиную, сэр, – безо всякой необходимости сказал он и распахнул дверь.
В дальнем конце длинной комнаты стояла группа из десятка человек, преимущественно мужчин. В центре всеобщего внимания находился персонаж с величавой седой бородой, стриженными ежиком волосами, в бархатном пиджаке с мягким галстуком, в монокле и с цветком в петлице. Он вел себя как опытный raconteur[8 - Рассказчик (фр.).], который, сказав mot[9 - Острота (фр.).], старается сохранить бесстрастное лицо. Его слушатели едва пришли в себя после приступа веселья. Секретарь с соломенными волосами, державший в руке бокал, даже похлопал пальцами левой руки по запястью правой, изображая аплодисменты. В этот момент он как раз повернулся, увидел Аллейнов и склонился к кому-то, сидевшему на диване, повернутом спинкой к двери.
– Ах да, – сказал голос, и мистер Реес встал и подошел, чтобы поприветствовать своих гостей.
Он был небольшого роста, смуглый, и с небольшим количеством того, что иногда называют «жирком про запас». Глаза у него были большие, лицо закрытое – из тех, которые легко забываются, так как ничего не выражают.
Он пожал чете Аллейнов руки и сказал, как рад принять их в своем доме; обращаясь к Трой, он добавил, что для него честь и привилегия оказать ей гостеприимство. В его речи проскальзывал небольшой американский акцент, но в целом голос, как и сам его обладатель, казался нейтральным. Он официально представил Аллейнов остальным. Рассказчика звали синьор Беппо Латтьенцо; он поцеловал Трой руку. Полный джентльмен, который был похож на оперного тенора, им и оказался – это был знаменитый Родольфо Романо. Мистер Бен Руби пошутил: все они знают, что у Трой получится лучше, чем вот это – и указал на огромный формальный портрет, изображавший платье Соммиты, увенчанное ее маской. Затем настала очередь потрясающе красивого молодого человека, казавшегося очень встревоженным, – Руперта Бартоломью; хорошенькой девушки, чье имя Трой, которую всегда сбивали с толку массовые знакомства, не уловила; и крупной леди с глубоким голосом на диване, которую звали мисс Хильда Дэнси; и, наконец, показался джентльмен с еще более глубоким голосом и веселым загорелым лицом, который объявил, что он новозеландец и что зовут его мистер Эру Джонстон.
Выполнив свой долг хозяина и познакомив между собой гостей, мистер Реес удержал подле себя Аллейна, проследил, чтобы ему налили выпить, отвел его в сторонку и, как заключила Трой по изменившемуся и ставшему очень внимательным выражению его лица, завел с ним серьезный разговор.
– У вас был очень длинный день, миссис Аллейн, – сказал синьор Латтьенцо с сильным итальянским акцентом. – Чувствуете ли вы, что все сигналы времени, – тут он быстро повращал пухлыми руками, – совершенно перемешались?
– Именно так, – кивнула Трой. – Думаю, это последствия смены часовых поясов.
– Приятно будет лечь в постель?
– Боже, да! – выдохнула она, вынужденная горячо с ним согласиться.
– Идите сюда, садитесь. – Синьор Латтьенцо повел художницу к дивану, стоявшему поодаль от того, где расположилась мисс Дэнси. – Вы не должны начинать рисовать, пока не будете готовы, – сказал он. – Не позволяйте им заставлять вас.
– О, надеюсь, завтра я буду готова.
– Я в этом сомневаюсь, а еще больше сомневаюсь в том, что в вашем распоряжении будет ваша модель.
– Почему? – быстро спросила Трой. – Что-нибудь случилось? То есть…
– Случилось? Это зависит от того, как посмотреть. – Он пристально поглядел на нее. Глаза у него были очень живые и блестящие. – Вы, очевидно, не слышали о грандиозном событии. Нет? Тогда я должен сказать вам, что послезавтра вечером мы станем слушателями самого первого представления совершенно новой одноактной оперы. Это будет мировая премьера, – объявил синьор Латтьенцо чрезвычайно сухим тоном. – Что вы об этом думаете?
– Я ошеломлена, – сказала Трой.
– Вы будете еще больше ошеломлены, когда услышите оперу. Вы, конечно, не знаете, кто я.
– Боюсь, мне известно лишь, что ваша фамилия Латтьенцо.
– Так и есть.
– Наверное, мне следовало воскликнуть: «О нет! Неужели тот самый Латтьенцо?»
– Вовсе нет. Я скромная личность – педагог по вокалу. Я беру человеческий голос и учу его узнавать самое себя.
– И вы…
– Да, я разобрал на части самый выдающийся вокальный инструмент нашего времени, снова собрал его и вернул владелице. Я три года работал как лошадь, и, наверное, я единственный человек, на которого она обращает хоть какое-то внимание в профессиональном смысле. Мне велено быть здесь, так как она желает, чтобы я впал в восторг от этой оперы.
– А вы ее видели? Или надо говорить «читали»?
Он поднял глаза к потолку и сделал отчаянный жест.
– О боже, – пробормотала Трой.
– Увы, увы, – согласился синьор Латтьенцо.
Интересно, он всегда так неосмотрителен с незнакомцами, подумала художница.
– Вы, разумеется, обратили внимание, – продолжил он, – на светловолосого молодого человека с внешностью средневекового ангела и с выражением душевной муки на лице?
– Да, обратила. У него замечательная голова.
– Задаешься вопросом, какой дьявол вселил в эту голову мысль, будто она может сочинить оперу. И все же, – сказал синьор Латтьенцо, задумчиво глядя на Руперта Бартоломью, – я полагаю, что ужас перед премьерным спектаклем, который, без сомнения, испытывает это бедное дитя, не совсем обычного свойства.
– Нет?
– Нет. Я думаю, он осознал свою ошибку и теперь чувствует себя ужасно.
– Но ведь это чудовищно. Это худшее, что может случиться.
– Значит, такое может произойти и с художником?
– Я думаю, художники еще в процессе работы понимают, что то, что они делают, плохо. Я знаю, что я это понимаю. Наверное, у сочинителей и, судя по вашим словам, у музыкантов нет этого временного промежутка, когда они могут достичь ужасного момента истины. Эта опера и в самом деле так плоха?
– Да. Плоха. Тем не менее примерно трижды можно услышать небольшие знаки, которые заставляют сожалеть о том, что ему потакают. Для него ничего не жалеют. Он будет дирижировать.
– А вы говорили с ним? О том, что не так?
– Еще нет. Сначала я позволю ему услышать эту оперу.
– Ох, – запротестовала Трой, – но зачем же?! Зачем ему проходить через это? Почему просто не поговорить и не посоветовать ему отменить представление?
– Во-первых, потому, что Соммита не обратит на это никакого внимания.
– Ты считаешь? – спросил Аллейн, передразнивая шофера Берта.
– Считаю, – сказала Трой. – Через ковер нужно пробираться, просто так по нему не пройдешь.
– Это не ковер. Это примерно двести овечьих шкур, сшитых вместе. Местный колорит.
– Мы, конечно, можем сколько угодно хихикать, но давай признаем: все это действительно производит потрясающее впечатление. Но все какое-то нечеловеческое. Вот если бы где-нибудь нашлось что-то потрепанное или неподходящее.
– Мы, – засмеялся Аллейн. – Мы подходим под оба эти определения. Допивай, нам лучше не опаздывать.
Спускаясь на первый этаж, они смогли в полной мере оценить холл с гигантским пылающим камином, с развешанным по стенам смертельным оружием всех видов, с ткаными гардинами в стиле маори и большой полуабстрактной деревянной скульптурой, изображавшей обнаженную беременную женщину с самодовольной усмешкой на лице. Из-за одной из дверей доносились звуки беседы. Один настойчивый мужской голос звучал громче остальных. Последовал взрыв общего смеха.
– Боже правый, – прошептал Аллейн, – да тут собралась целая компания гостей.
В холле стоял смуглый мужчина, относивший в их комнату багаж.
– Прошу в гостиную, сэр, – безо всякой необходимости сказал он и распахнул дверь.
В дальнем конце длинной комнаты стояла группа из десятка человек, преимущественно мужчин. В центре всеобщего внимания находился персонаж с величавой седой бородой, стриженными ежиком волосами, в бархатном пиджаке с мягким галстуком, в монокле и с цветком в петлице. Он вел себя как опытный raconteur[8 - Рассказчик (фр.).], который, сказав mot[9 - Острота (фр.).], старается сохранить бесстрастное лицо. Его слушатели едва пришли в себя после приступа веселья. Секретарь с соломенными волосами, державший в руке бокал, даже похлопал пальцами левой руки по запястью правой, изображая аплодисменты. В этот момент он как раз повернулся, увидел Аллейнов и склонился к кому-то, сидевшему на диване, повернутом спинкой к двери.
– Ах да, – сказал голос, и мистер Реес встал и подошел, чтобы поприветствовать своих гостей.
Он был небольшого роста, смуглый, и с небольшим количеством того, что иногда называют «жирком про запас». Глаза у него были большие, лицо закрытое – из тех, которые легко забываются, так как ничего не выражают.
Он пожал чете Аллейнов руки и сказал, как рад принять их в своем доме; обращаясь к Трой, он добавил, что для него честь и привилегия оказать ей гостеприимство. В его речи проскальзывал небольшой американский акцент, но в целом голос, как и сам его обладатель, казался нейтральным. Он официально представил Аллейнов остальным. Рассказчика звали синьор Беппо Латтьенцо; он поцеловал Трой руку. Полный джентльмен, который был похож на оперного тенора, им и оказался – это был знаменитый Родольфо Романо. Мистер Бен Руби пошутил: все они знают, что у Трой получится лучше, чем вот это – и указал на огромный формальный портрет, изображавший платье Соммиты, увенчанное ее маской. Затем настала очередь потрясающе красивого молодого человека, казавшегося очень встревоженным, – Руперта Бартоломью; хорошенькой девушки, чье имя Трой, которую всегда сбивали с толку массовые знакомства, не уловила; и крупной леди с глубоким голосом на диване, которую звали мисс Хильда Дэнси; и, наконец, показался джентльмен с еще более глубоким голосом и веселым загорелым лицом, который объявил, что он новозеландец и что зовут его мистер Эру Джонстон.
Выполнив свой долг хозяина и познакомив между собой гостей, мистер Реес удержал подле себя Аллейна, проследил, чтобы ему налили выпить, отвел его в сторонку и, как заключила Трой по изменившемуся и ставшему очень внимательным выражению его лица, завел с ним серьезный разговор.
– У вас был очень длинный день, миссис Аллейн, – сказал синьор Латтьенцо с сильным итальянским акцентом. – Чувствуете ли вы, что все сигналы времени, – тут он быстро повращал пухлыми руками, – совершенно перемешались?
– Именно так, – кивнула Трой. – Думаю, это последствия смены часовых поясов.
– Приятно будет лечь в постель?
– Боже, да! – выдохнула она, вынужденная горячо с ним согласиться.
– Идите сюда, садитесь. – Синьор Латтьенцо повел художницу к дивану, стоявшему поодаль от того, где расположилась мисс Дэнси. – Вы не должны начинать рисовать, пока не будете готовы, – сказал он. – Не позволяйте им заставлять вас.
– О, надеюсь, завтра я буду готова.
– Я в этом сомневаюсь, а еще больше сомневаюсь в том, что в вашем распоряжении будет ваша модель.
– Почему? – быстро спросила Трой. – Что-нибудь случилось? То есть…
– Случилось? Это зависит от того, как посмотреть. – Он пристально поглядел на нее. Глаза у него были очень живые и блестящие. – Вы, очевидно, не слышали о грандиозном событии. Нет? Тогда я должен сказать вам, что послезавтра вечером мы станем слушателями самого первого представления совершенно новой одноактной оперы. Это будет мировая премьера, – объявил синьор Латтьенцо чрезвычайно сухим тоном. – Что вы об этом думаете?
– Я ошеломлена, – сказала Трой.
– Вы будете еще больше ошеломлены, когда услышите оперу. Вы, конечно, не знаете, кто я.
– Боюсь, мне известно лишь, что ваша фамилия Латтьенцо.
– Так и есть.
– Наверное, мне следовало воскликнуть: «О нет! Неужели тот самый Латтьенцо?»
– Вовсе нет. Я скромная личность – педагог по вокалу. Я беру человеческий голос и учу его узнавать самое себя.
– И вы…
– Да, я разобрал на части самый выдающийся вокальный инструмент нашего времени, снова собрал его и вернул владелице. Я три года работал как лошадь, и, наверное, я единственный человек, на которого она обращает хоть какое-то внимание в профессиональном смысле. Мне велено быть здесь, так как она желает, чтобы я впал в восторг от этой оперы.
– А вы ее видели? Или надо говорить «читали»?
Он поднял глаза к потолку и сделал отчаянный жест.
– О боже, – пробормотала Трой.
– Увы, увы, – согласился синьор Латтьенцо.
Интересно, он всегда так неосмотрителен с незнакомцами, подумала художница.
– Вы, разумеется, обратили внимание, – продолжил он, – на светловолосого молодого человека с внешностью средневекового ангела и с выражением душевной муки на лице?
– Да, обратила. У него замечательная голова.
– Задаешься вопросом, какой дьявол вселил в эту голову мысль, будто она может сочинить оперу. И все же, – сказал синьор Латтьенцо, задумчиво глядя на Руперта Бартоломью, – я полагаю, что ужас перед премьерным спектаклем, который, без сомнения, испытывает это бедное дитя, не совсем обычного свойства.
– Нет?
– Нет. Я думаю, он осознал свою ошибку и теперь чувствует себя ужасно.
– Но ведь это чудовищно. Это худшее, что может случиться.
– Значит, такое может произойти и с художником?
– Я думаю, художники еще в процессе работы понимают, что то, что они делают, плохо. Я знаю, что я это понимаю. Наверное, у сочинителей и, судя по вашим словам, у музыкантов нет этого временного промежутка, когда они могут достичь ужасного момента истины. Эта опера и в самом деле так плоха?
– Да. Плоха. Тем не менее примерно трижды можно услышать небольшие знаки, которые заставляют сожалеть о том, что ему потакают. Для него ничего не жалеют. Он будет дирижировать.
– А вы говорили с ним? О том, что не так?
– Еще нет. Сначала я позволю ему услышать эту оперу.
– Ох, – запротестовала Трой, – но зачем же?! Зачем ему проходить через это? Почему просто не поговорить и не посоветовать ему отменить представление?
– Во-первых, потому, что Соммита не обратит на это никакого внимания.