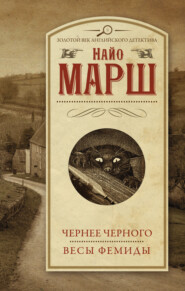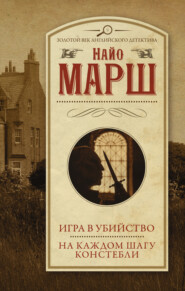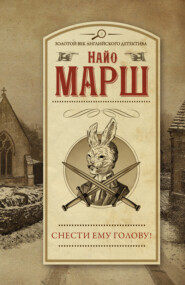По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фотофиниш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О! Да. Понимаю. Тогда хорошо. Я передам ей.
Бартоломью сделал движение к двери, но заметно было, что ему хочется остаться.
– Садитесь, – сказал Аллейн, – если вы, конечно, не спешите. Мы надеялись, что кто-нибудь… что вы, если у вас есть время, расскажете нам немного подробнее о завтрашнем вечере.
Он развел руками, словно хотел зажать ими уши, но спохватился и спросил, не против ли они, если он закурит. Он достал портсигар – золотой, украшенный драгоценными камнями.
– Желаете? – обратился он к Трой, а когда она отказалась, повернулся к Аллейну.
Открытый портсигар выпал из его неуверенной руки. Бартоломью извинился с таким видом, будто его застукали за кражей в магазине. Аллейн поднял портсигар. На внутренней стороне крышки располагалась уже знакомая ему размашистая подпись: Изабелла Соммита.
Бартоломью весьма неуклюже закрыл портсигар и закурил сигарету. Аллейн, словно продолжая начатый разговор, спросил у Трой, куда поставить мольберт. Они разыграли импровизированный спор по поводу освещения и бассейна как темы для картины. Это дало им обоим возможность выглянуть в окно.
– Очень трудный предмет, – сказала Трой. – Не думаю, что я этим займусь.
– Думаешь, лучше мастерски побездельничать? – весело спросил Аллейн. – Может, ты и права.
Они отвернулись от окна и увидели, что Руперт сидит на краю подиума для модели и плачет.
Он обладал настолько поразительной мужской физической красотой, что в его слезах было что-то нереальное. Они лились по идеальным чертам его лица и были похожи на капли воды на греческой маске. Зрелище было печальное, но при этом нелепое.
– Дорогой мой, в чем дело? – спросила Трой. – Не хотите поговорить? Мы не станем об этом распространяться.
И он заговорил. Сначала бессвязно, то и дело прерывая свою речь извинениями: им незачем все это выслушивать; он не хочет, чтобы они думали, будто он навязывается; наверное, это им неинтересно. Бартоломью вытер слезы, высморкался, глубоко затянулся сигаретой и заговорил яснее.
Сначала он просто заявил, что «Чужестранка» никуда не годится, что он осознал это совершенно внезапно, и абсолютно в этом убежден.
– Это было ужасно. Я делал коктейли и вдруг, ни с того ни с сего, я понял. Ничто теперь не изменится: опера дрянь.
– А представление в тот момент уже обсуждалось? – уточнил Аллейн.
– У нее все было спланировано. Это должен был быть… ну, большой сюрприз. А самое отвратительное, – сказал Руперт, и его поразительно красивые голубые глаза расширились от ужаса, – я ведь считал, что все просто потрясающе. Как в сентиментальном фильме про то, как юный гений добивается успеха. Я был, как бы это сказать… в эйфории.
– Вы сразу ей об этом сказали? – спросила Трой.
– Нет, не сразу. Там были еще мистер Реес и Бен Руби. Я был… Понимаете, я был так раздавлен, или что-то вроде того. Я подождал, – сказал Бартоломью и покраснел, – до вечера.
– Как она это восприняла?
– Никак. То есть она просто не стала меня слушать. Она просто отмахнулась от моих слов. Она сказала… О боже, она сказала, что у гениев всегда случаются такие минуты – минуты, как она выразилась, божественного отчаяния. Она сказала, что у нее такое бывает. По поводу ее пения. А потом, когда я стал настаивать, она… ну, она очень рассердилась. И вы понимаете – у нее были на это причины. Все ее планы и договоренности. Она написала Беппо Латтьенцо и сэру Дэвиду Баумгартнеру, договорилась с Родольфо, Хильдой и Сильвией и со всеми остальными. И пресса. Знаменитости. Все такое. Я какое-то время упирался, но…
Он умолк, бросил быстрый взгляд на Аллейна и опустил глаза.
– Было и кое-что другое. Все сложнее, чем кажется по моему рассказу, – пробормотал он.
– Взаимоотношения между людьми иногда бывают ужасно трудными, да? – сказал Аллейн.
– И не говорите! – пылко согласился Руперт и выпалил: – Я, должно быть, сошел с ума! Или даже заболел. Как будто у меня была лихорадка, а теперь она прошла, и… Я выздоровел, и мне остается лишь ждать завтрашнего дня.
– Вы в этом уверены? – спросила Трой. – А труппа и оркестр? Вам известно их мнение? А синьор Латтьенцо?
– Она заставила меня пообещать, что я не покажу ему оперу. Не знаю, показывала ли она ее сама. Думаю, показывала. Он, конечно же, сразу понял, что опера ужасна. А труппа еще как об этом знает. Родольфо Романо очень тактично предлагает внести изменения. Я видел, как они переглядываются. Они умолкают при моем появлении. Знаете, как они ее называют? Они думают, что я не слышал, но это не так. Они говорят, что это пошлая банальщина. Ох, – воскликнул Руперт, – ей не следовало этого делать! Это нечестно: у меня не было никакой надежды. Ни малейшего шанса. Боже, и ведь она заставляет меня дирижировать! И я буду стоять перед этими знаменитостями, размахивать руками словно чертова марионетка, а они не будут знать куда глаза девать от неловкости.
Воцарилось долгое молчание, которое наконец нарушила Трой.
– Так откажитесь, – энергично сказала она. – Плевать на знаменитостей, на всю эту суету и поддельную славу. Это будет очень неприятно и потребует большого мужества, но, по крайней мере, это будет честно. И к черту их всех. Откажитесь.
Бартоломью встал. Перед тем как прийти сюда, он купался, и его короткий желтый халат распахнулся. Трой заметила, что кожа у него абрикосового оттенка, а не цвета темного загара, и не огрубевшая, как у большинства любителей солнца. Он и правда весьма лакомый кусочек. Неудивительно, что Соммита в него вцепилась. Бедняжка, да он просто экземпляр для коллекции.
– Не думаю, – сказал Руперт Бартоломью, – что я трусливее прочих. Дело не в этом. Дело в ней – в Изабелле. Вы ведь видели вчера, какой она бывает. А тут еще это письмо в газете… Послушайте, она либо сорвется и заболеет, либо впадет в бешенство и убьет кого-нибудь. Предпочтительно, чтобы это был я.
– Ой, да перестаньте!
– Нет, – сказал он, – это не глупости. Правда. Она ведь сицилийка.
– Не все сицилийки – тигрицы, – заметил Аллейн.
– Такие как она – тигрицы.
Трой поднялась:
– Оставлю вас с Рори. Думаю, тут потребуется мужской шовинистический разговор. Посплетничайте.
Когда она ушла, Руперт вновь принялся извиняться. Что подумает о нем миссис Аллейн!
– Даже не думайте об этом беспокоиться, – сказал Аллейн. – Ей вас жаль, она не шокирована и, уж конечно, вы ей не докучаете. Я думаю, она права: как бы это ни было неприятно, вам, возможно, следует отказаться. Но боюсь, решение это придется принимать только вам, и никому другому.
– Да, но вы не знаете самого худшего. Я не мог говорить об этом при миссис Аллейн. Я… Изабелла… Мы…
– Вы любовники, так?
– Если это можно так назвать, – пробормотал Руперт.
– И вы думаете, что если выступите против нее, то вы ее потеряете? Дело в этом?
– Не совсем. То есть, конечно, я думаю, она меня вышвырнет.
– Это было бы так уж плохо?
– Это было бы чертовски хорошо! – выпалил он.
– Ну, тогда…
– Я не жду, что вы меня поймете. Я сам себя не понимаю. Сначала это было чудесно, просто волшебно. Я чувствовал себя способным на что угодно. Прекрасно. Бесподобно. Слышать, как она поет, стоять за кулисами театра, видеть, как две тысячи человек сходят по ней с ума, и знать, что выходы на поклон, цветы и овации – это еще не конец, что для меня все самое лучшее еще впереди. Знаете, как говорят про гребень волны? Это было прекрасно.
– Могу себе представить.
– А потом, после того… Ну, после того момента истины по поводу оперы, вся картина изменилась. Можно сказать, то же самое случилось и в отношении нее. Я вдруг увидел, какая она на самом деле, и что она одобряет эту чертову провальную оперу, потому что видит себя успешно выступающей в ней, и что никогда, никогда ей не следовало меня поощрять. И я понял, что у нее нет настоящего музыкального вкуса, и что я пропал.
Бартоломью сделал движение к двери, но заметно было, что ему хочется остаться.
– Садитесь, – сказал Аллейн, – если вы, конечно, не спешите. Мы надеялись, что кто-нибудь… что вы, если у вас есть время, расскажете нам немного подробнее о завтрашнем вечере.
Он развел руками, словно хотел зажать ими уши, но спохватился и спросил, не против ли они, если он закурит. Он достал портсигар – золотой, украшенный драгоценными камнями.
– Желаете? – обратился он к Трой, а когда она отказалась, повернулся к Аллейну.
Открытый портсигар выпал из его неуверенной руки. Бартоломью извинился с таким видом, будто его застукали за кражей в магазине. Аллейн поднял портсигар. На внутренней стороне крышки располагалась уже знакомая ему размашистая подпись: Изабелла Соммита.
Бартоломью весьма неуклюже закрыл портсигар и закурил сигарету. Аллейн, словно продолжая начатый разговор, спросил у Трой, куда поставить мольберт. Они разыграли импровизированный спор по поводу освещения и бассейна как темы для картины. Это дало им обоим возможность выглянуть в окно.
– Очень трудный предмет, – сказала Трой. – Не думаю, что я этим займусь.
– Думаешь, лучше мастерски побездельничать? – весело спросил Аллейн. – Может, ты и права.
Они отвернулись от окна и увидели, что Руперт сидит на краю подиума для модели и плачет.
Он обладал настолько поразительной мужской физической красотой, что в его слезах было что-то нереальное. Они лились по идеальным чертам его лица и были похожи на капли воды на греческой маске. Зрелище было печальное, но при этом нелепое.
– Дорогой мой, в чем дело? – спросила Трой. – Не хотите поговорить? Мы не станем об этом распространяться.
И он заговорил. Сначала бессвязно, то и дело прерывая свою речь извинениями: им незачем все это выслушивать; он не хочет, чтобы они думали, будто он навязывается; наверное, это им неинтересно. Бартоломью вытер слезы, высморкался, глубоко затянулся сигаретой и заговорил яснее.
Сначала он просто заявил, что «Чужестранка» никуда не годится, что он осознал это совершенно внезапно, и абсолютно в этом убежден.
– Это было ужасно. Я делал коктейли и вдруг, ни с того ни с сего, я понял. Ничто теперь не изменится: опера дрянь.
– А представление в тот момент уже обсуждалось? – уточнил Аллейн.
– У нее все было спланировано. Это должен был быть… ну, большой сюрприз. А самое отвратительное, – сказал Руперт, и его поразительно красивые голубые глаза расширились от ужаса, – я ведь считал, что все просто потрясающе. Как в сентиментальном фильме про то, как юный гений добивается успеха. Я был, как бы это сказать… в эйфории.
– Вы сразу ей об этом сказали? – спросила Трой.
– Нет, не сразу. Там были еще мистер Реес и Бен Руби. Я был… Понимаете, я был так раздавлен, или что-то вроде того. Я подождал, – сказал Бартоломью и покраснел, – до вечера.
– Как она это восприняла?
– Никак. То есть она просто не стала меня слушать. Она просто отмахнулась от моих слов. Она сказала… О боже, она сказала, что у гениев всегда случаются такие минуты – минуты, как она выразилась, божественного отчаяния. Она сказала, что у нее такое бывает. По поводу ее пения. А потом, когда я стал настаивать, она… ну, она очень рассердилась. И вы понимаете – у нее были на это причины. Все ее планы и договоренности. Она написала Беппо Латтьенцо и сэру Дэвиду Баумгартнеру, договорилась с Родольфо, Хильдой и Сильвией и со всеми остальными. И пресса. Знаменитости. Все такое. Я какое-то время упирался, но…
Он умолк, бросил быстрый взгляд на Аллейна и опустил глаза.
– Было и кое-что другое. Все сложнее, чем кажется по моему рассказу, – пробормотал он.
– Взаимоотношения между людьми иногда бывают ужасно трудными, да? – сказал Аллейн.
– И не говорите! – пылко согласился Руперт и выпалил: – Я, должно быть, сошел с ума! Или даже заболел. Как будто у меня была лихорадка, а теперь она прошла, и… Я выздоровел, и мне остается лишь ждать завтрашнего дня.
– Вы в этом уверены? – спросила Трой. – А труппа и оркестр? Вам известно их мнение? А синьор Латтьенцо?
– Она заставила меня пообещать, что я не покажу ему оперу. Не знаю, показывала ли она ее сама. Думаю, показывала. Он, конечно же, сразу понял, что опера ужасна. А труппа еще как об этом знает. Родольфо Романо очень тактично предлагает внести изменения. Я видел, как они переглядываются. Они умолкают при моем появлении. Знаете, как они ее называют? Они думают, что я не слышал, но это не так. Они говорят, что это пошлая банальщина. Ох, – воскликнул Руперт, – ей не следовало этого делать! Это нечестно: у меня не было никакой надежды. Ни малейшего шанса. Боже, и ведь она заставляет меня дирижировать! И я буду стоять перед этими знаменитостями, размахивать руками словно чертова марионетка, а они не будут знать куда глаза девать от неловкости.
Воцарилось долгое молчание, которое наконец нарушила Трой.
– Так откажитесь, – энергично сказала она. – Плевать на знаменитостей, на всю эту суету и поддельную славу. Это будет очень неприятно и потребует большого мужества, но, по крайней мере, это будет честно. И к черту их всех. Откажитесь.
Бартоломью встал. Перед тем как прийти сюда, он купался, и его короткий желтый халат распахнулся. Трой заметила, что кожа у него абрикосового оттенка, а не цвета темного загара, и не огрубевшая, как у большинства любителей солнца. Он и правда весьма лакомый кусочек. Неудивительно, что Соммита в него вцепилась. Бедняжка, да он просто экземпляр для коллекции.
– Не думаю, – сказал Руперт Бартоломью, – что я трусливее прочих. Дело не в этом. Дело в ней – в Изабелле. Вы ведь видели вчера, какой она бывает. А тут еще это письмо в газете… Послушайте, она либо сорвется и заболеет, либо впадет в бешенство и убьет кого-нибудь. Предпочтительно, чтобы это был я.
– Ой, да перестаньте!
– Нет, – сказал он, – это не глупости. Правда. Она ведь сицилийка.
– Не все сицилийки – тигрицы, – заметил Аллейн.
– Такие как она – тигрицы.
Трой поднялась:
– Оставлю вас с Рори. Думаю, тут потребуется мужской шовинистический разговор. Посплетничайте.
Когда она ушла, Руперт вновь принялся извиняться. Что подумает о нем миссис Аллейн!
– Даже не думайте об этом беспокоиться, – сказал Аллейн. – Ей вас жаль, она не шокирована и, уж конечно, вы ей не докучаете. Я думаю, она права: как бы это ни было неприятно, вам, возможно, следует отказаться. Но боюсь, решение это придется принимать только вам, и никому другому.
– Да, но вы не знаете самого худшего. Я не мог говорить об этом при миссис Аллейн. Я… Изабелла… Мы…
– Вы любовники, так?
– Если это можно так назвать, – пробормотал Руперт.
– И вы думаете, что если выступите против нее, то вы ее потеряете? Дело в этом?
– Не совсем. То есть, конечно, я думаю, она меня вышвырнет.
– Это было бы так уж плохо?
– Это было бы чертовски хорошо! – выпалил он.
– Ну, тогда…
– Я не жду, что вы меня поймете. Я сам себя не понимаю. Сначала это было чудесно, просто волшебно. Я чувствовал себя способным на что угодно. Прекрасно. Бесподобно. Слышать, как она поет, стоять за кулисами театра, видеть, как две тысячи человек сходят по ней с ума, и знать, что выходы на поклон, цветы и овации – это еще не конец, что для меня все самое лучшее еще впереди. Знаете, как говорят про гребень волны? Это было прекрасно.
– Могу себе представить.
– А потом, после того… Ну, после того момента истины по поводу оперы, вся картина изменилась. Можно сказать, то же самое случилось и в отношении нее. Я вдруг увидел, какая она на самом деле, и что она одобряет эту чертову провальную оперу, потому что видит себя успешно выступающей в ней, и что никогда, никогда ей не следовало меня поощрять. И я понял, что у нее нет настоящего музыкального вкуса, и что я пропал.