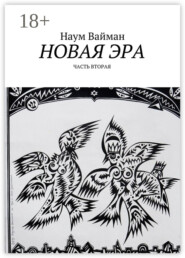По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Преображения Мандельштама
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая.
Культура – это память. Укладка ее слоев, подобно нагромождению горных пород[121 - «Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу»… («Разговор о Данте», 1933 г.)]. Она учительствует, она вносит строй в хаос ночи, бросает грифели лесам, то есть и лесу дает высказаться, вырывая эти грифели из птичьих клювов. И не забудем: «перо (инструмент поэта – Н.В.) – кусочек птичьей плоти»[122 - «Разговор о Данте» (1933).], а поэты в «Грифельной оде» и «Канцоне» – мифические хищные птицы. И из каменного горла?жерла рвется не пожирающая всё ночь?смерть, а глядит ястребиный желток – та же птичья плоть поэта, что накормит грифели (желток – среда, в которой развивается зародыш).
Ночь, золотой твой кипяток
Стервятника ошпарил горло,
И ястребиный твой желток
Глядит из каменного горла.
Это не державинская культура смерти и забвения, а культура памяти и ученичества:
торжествует память – пусть ценою смерти: умереть значит вспомнить, вспомнить значит умереть… Вспомнить во что бы то ни стало! Побороть забвение – хотя бы это стоило смерти…[123 - Статья «Скрябин и христианство» (1917). Йерушалми в «Захор» пишет: «только в Израиле, и нигде больше, предписание помнить ощущается всем народом как религиозный императив».]
В финале «Грифельной оды» осевая мысль возвращается: жизнь есть учеба, эстафета знания, а знание – благодать:
И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света.
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, погружая в стык,
Кремень с водой, с подковой перстень.
Христианство повествует о Фоме неверующем, вложившем персты в рану Иисуса, чтобы убедиться в его божественности. Мандельштам?иудей вкладывает персты в Путь, как в поток времени?памяти, он же и «кремнистый путь», из старой песни движения горных пород.
Здесь пишет сдвиг. На месте сдвига остается стык – важный образ у Мандельштама, стык кремниевых пород и стык звезд. Если у раннего Мандельштама звезды «грубые», «жестокие», «колючие», то у позднего – звездное небо становится многоочитым, как чешуя, звездным форумом, народным собранием звезд, подобно собору всех некогда живших на земле. Оно же – «небо крупных оптовых смертей»[124 - «Стихи о неизвестном солдате» (1937).], и поэт берет на себя дерзость быть голосом этого неба?собора: «За тебя, от тебя, целокупное, я губами несусь в темноте…»[125 - Там же.]. И тогда «звезда с звездой – могучий стык», встреча, а встреча это – передача. Встречаются, чтобы передать друг другу нечто самое важное – поделиться памятью.
Мандельштам вкладывает в этот стык «кремень с водой, с подковой перстень». Вода и камень – две основы природы, твердая и текучая. Вода камень точит (а кремень – самый твердый камень), и он становится «дневником погоды, накопленным миллионами лихолетий; он не только прошлое, но и будущее… Он аладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен». Взаимодействие воды и кремня – метафора эволюции. А подкова и перстень – символы преемственности, передачи эстафеты в беге?потоке жизни. Подкова еще и знак удачи – благосклонности небес, она «высекает искры из кремня»[126 - «Нашедший подкову» (1922).], а искры – божественные частицы (душа – искра Божия). Перстень в Библии – знак власти, как печатью им скрепляли свое веское слово, и передавали перстень?печать в дар или по наследству. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою», сказано в Песне Песней. М. Гаспаров в его классическом разборе «Грифельной оды»[127 - М. Гаспаров, ««Грифельная ода» Мандельштама: история текста и история смысла».] пишет: «и тот и другой предмет – хранители памяти, главной темы стихотворения Мандельштама». В другом месте он называет поэта «носителем культурной памяти».
Державин в Оде, по Гаспарову, – творец?учитель?патриарх «с грифельной доской в руках среди Ликея кремневых гор». Но в дальнейшем Гаспаров подмечает, что «Державин здесь стилизуется под овечьего патриарха», а «овечий мир» в этом стихотворении есть мир «докультурного беспамятства… виноградно?овечьего застоя», и что по ходу стихотворения «образ Державина открыто отвергается во имя новых, «геологических» концепций происхождения поэзии». Чабанью шапку из строк «Мы стоя спим в густой ночи/Под теплой шапкою овечьей», что перекочевала в стихотворение с «портрета Державина работы Тончи», он называет «”теплой шапкой” притупляющего овечьего существования». А «вокруг – густая ночь, пока еще не творческая».
Такими же «овечьими патриархами» были и бедуины, что «закрыв глаза и на коне» слагали вольные былины. И четвертая строфа «Грифельной оды» прямая перекличка и спор с «поэзией бедуинов»[128 - В категорию «бедуинской поэзии» попадал и Гумилев с его «Я люблю – как араб в пустыне/Припадает к воде и пьет…» («Я и Вы», 1917)…]. В стихотворении «Отравлен хлеб» они слагают вольные былины «о смутно пережитом дне», им «немного нужно для наитий» – достаточно простых «событий», дневных впечатлений обыденной жизни («кто потерял в песке колчан, кто выменял коня»), в этой поэзии нет ни христианства, ни какой?либо иной «метафизики», это описательноперечислительная поэзия «докультурного беспамятства». Мандельштам в «Грифельной оде» (и вообще) отвергает всякую описательность и перечисление случайных событий, «дневные впечатления» – мертвый сор, в лучшем случае – птенцы, слетевшие с руки.
Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
От «пестрых дней» и «событий», не соединенных нитью культурной памяти, ничего не остается.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья.
Сланцевая доска патриарха Державина названа иконоборческой, потому что его чеканные строки о смерти по сути антихристианские, это поэзия «докультурного беспамятства» дикая, овечья, бедуинская. Мандельштам гонит прочь «дневные впечатления», стряхивает с руки эти «прозрачные виденья», потому прозрачные, что едва родившись, они исчезают, тают – «прозрачность» у Мандельштама всегда признак загробной «тени». Здесь вызов не только Державину, но всей описательной, событийной, «бедуинской» русской поэзии[129 - Городецкий считает «Грифельную оду» «манифестом ухода Мандельштама от русской языковой картины мира» (сокращенно ЯКМ). Анализируя в частности строки «Нет, я не каменщик прямой, / Не кровельщик, не корабельщик, / Двурушник я, с двойной душой…», он подмечает, что несмотря на «априорную позитивность» в русской ЯКМ «прямоты» и негативность «кривизны», Мандельштам не только подчеркивает (и в этом тексте, и во многих других) свое двурушничество и кривизну («чертова» фамилия поэта «криво звучит, а не прямо»), но и выделяет «кривизну» как положительное качество, например, называет речи почитаемого им Андрея Белого «запутанными, как честные зигзаги» (в цикле на смерть Белого), пишет о Ереване: «улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны». [Интересно, что Целан декларирует свое родство с Мандельштамом, «называя кривым как свой нос, так и свою речь» (Анна Глазова, «Воздушно?каменный кристал. Целан и Мандельштам», НЛО №5, 2003).] В то же время «прямоту» он наделяет отрицательными коннотациями, например, «как виселица прям и дик», характеризует Сталина как «непобедимого, прямого», а «одной из замечательных особенностей дантовской психики» считает «его страх перед прямыми ответами».].
4. Египет и Иосиф Прекрасный
Если «Грифельная ода» – итог спора с Державиным, то стихотворение «Отравлен хлеб и воздух выпит» – его начало. Последняя строфа как бы перечеркивает державинский ужас перед цунами смерти:
И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец.
Остаются не только пространство и звезды, то есть Космос (куда ж ему деться), но и певец, его песня, а значит – слово. Оно, как кровь, – квинтэссенция и эстафета жизни.
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…[130 - «Батюшков» (1932).]
Не случайно и любимый Мандельштамом Батюшков, поэт вечных снов, как образчиков крови, тоже опровергает Державина:
Жуковский, время всё проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..
Знание и жизнь не исчезают, а накапливаются, как геологические наслоения горных пород – вот философия Мандельштама, для него и природа исторична (геологические слои). Песни слагаются, передаются другим и меняют строй этой жизни, лепят опыт из лепета, они сами и есть – метафизика, хотя бы на уровне благоговения. В них есть, по выражению Жака Маритена «метафизический эрос». Они – накопленное сокровище, передаваемое, как эстафета.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И, как свою, ее произнесет[131 - «Я не слыхал рассказов Оссиана» (1914).].
А теперь, разобрав смысл трех последних строф стихотворения «Отравлен хлеб», как спора?противостояния Державину и, условно говоря, «бедуинской» (пространственной, языческой) линии русской поэзии, вернемся к вопросу: какова же связь этой «державинской линии» с первой строфой об отравленном хлебе и выпитом воздухе[132 - «Выпитый воздух» – повторяющаяся метафора у М?ма, означающая удушливость, предсмертное состояние, так в стихотворении «Телефон»: «Весь воздух выпили тяжелые портьеры… Самоубийство решено». То есть тоска героя в первой строфе стихотворения «Отравлен хлеб» поистине смертная…], о душевных ранах и тоске Иосифа Прекрасного?
Библейский рассказ об Иосифе, проданном братьями в Египет, одна из самых важных назидательных историй о «судьбе человека», его образ Иосиф Мандельштам частенько примерял на себя. В христианстве, прежде всего в православии, почитают Иосифа Прекрасного, сына Иакова, как Иосифа Праведного, или Иосифа Целомудренного, он считается пророческим прототипом Иисуса Христа. Так родоначальник Иаков, названный Израилем, «любил Иосифа более всех сыновей своих <…> и сделал ему разноцветную одежду» (Быт. 37:3), а Христос, де, тоже был возлюбленным сыном Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Мф.3:17); и продан был Иосиф за двадцать сребреников (Иисус – за тридцать), и продавший его брат звался Иудой, ну и т.д. Мандельштам, надо сказать, примеривал на себя и образ Христа («получишь уксусную губку ты для изменнических уст»). А в эпоху безответного «романа со Сталиным» поэта привлекали мечты о признании фараоном его заслуг, избавлении от унижений и вознесении к славе[133 - Об этой «славе» в стихотворении «Канцона» («Слева сердце бьется, слава, бейся!»).]:
«Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы дух божий?» После этого, обратясь к Иосифу, он сказал: «Так как бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». При этом он дал ему свой перстень, одел его в виссонные одежды, возложил ему на шею золотую цепь, велел везти его в своей колеснице и возглашать: «Преклоняйтесь». «И поставил его над всею землею египетскою» (Быт., гл. 41, ст. 38, 39, 42, 43).
Этот библейский эпизод считается прообразом славного Воскресения Христа…
В Египте библейский Иосиф отличился тем, что в годы хороших урожаев запасся хлебом, а когда настали «тощие» годы, спас этими запасами не только египтян, но и своих соплеменников. Несомненно, что выражение «отравленный хлеб» в названии стихотворения связано с тем, что ветхозаветные евреи, переселившись в Египет, страну хлебную, под сановное крыло Иосифа, спаслись от голода, но лишились свободы, оказались пленниками этой страны.
«Египет» для Мандельштама – метафора России[134 - Среди евреев принято было сравнивать пребывание в России с пленом египетским. Шалом?Алейхем, например, называл Киев «Егупецом». Л. Видгоф пишет в книге «Статьи о Мандельштаме» (статья «О «начальнике евреев» и «малиновой ласке»«): «Москва – столица нового Египта». У Мандельштама частенько проскакивает в контексте Петербурга или России эпитет «египетский»: «Я не стоял под египетским портиком банка» («С миром державным…», 1931 г.), «полотеры пляшут с египетскими телодвижениями» («Египетская марка», 1928 г.) а когда он говорит, что «в жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может египетской и ассирийской» (статья «Девятнадцатый век», 1922 г.), то имеет в виду Россию (Сталина он называл «ассирийцем»).]. В одном из последних стихотворений «Чтоб приятель и ветра и капель…» (1937) он противопоставляет внутреннюю свободу поэта «государственному строю египтян», что «украшался отборной собачиной», «наделял мертвецов всякой всячиной и торчит пустячком пирамид» (намек на Мавзолей с мумией Ленина – воистину египетский памятник[135 - На мой взгляд, именно этой мумии вождя, спрятанной в горку Мавзолея, посвящено стихотворение «Внутри горы бездействует кумир…» Мумия, как метафора Египта, застывшей страны, усыпленного времени.Кость усыпленная завязана узлом,Очеловечены колени, руки, плечи,Он улыбается своим тишайшим ртом,Он мыслит костию и чувствует челомИ вспомнить силится свой облик человечий.(1936)]). Себя же он отождествляет с бесшабашным?безбашенным Франсуа Вийоном:
То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно?грешный певец, —
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий…
Это его, Мандельштама, скрежет зубовный («так гранит зернистый тот тень моя грызет очами»), это для него поэзия – «ворованный воздух», это он озорует[136 - «После полуночи сердце ворует/Прямо из рук запрещенную тишь./ Тихо живет – хорошо озорует…» (1931).] «рядом с готикой», так напоминающей своей грандиозной мощью египетские пирамиды. И также как заключенный в тюрьму и приговоренный к смерти Франсуа Вийон, он жил в плену и под угрозой смерти. Слово «Египет» для еврея прочно связано с пленом и рабством. Не только плен библейского Иосифа, умудрившегося, будучи пленником, сделать карьеру при дворе фараона, но и плен всего еврейского народа, оказавшегося в египетском рабстве. Освобождение от него евреи празднуют каждую весну. Одно из важнейших своих произведений в прозе Мандельштам назвал «Египетской маркой». Его главный герой Парнок, так похожий на самого автора, мечется по Петербургу, будто мышь на пожаре, в предсмертной панике. Парнок – образ запуганного, пойманного еврея. Он же – комарик из Египта с его еврейскими «извинениями».
Из птичьих клювов вырывая.
Культура – это память. Укладка ее слоев, подобно нагромождению горных пород[121 - «Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу»… («Разговор о Данте», 1933 г.)]. Она учительствует, она вносит строй в хаос ночи, бросает грифели лесам, то есть и лесу дает высказаться, вырывая эти грифели из птичьих клювов. И не забудем: «перо (инструмент поэта – Н.В.) – кусочек птичьей плоти»[122 - «Разговор о Данте» (1933).], а поэты в «Грифельной оде» и «Канцоне» – мифические хищные птицы. И из каменного горла?жерла рвется не пожирающая всё ночь?смерть, а глядит ястребиный желток – та же птичья плоть поэта, что накормит грифели (желток – среда, в которой развивается зародыш).
Ночь, золотой твой кипяток
Стервятника ошпарил горло,
И ястребиный твой желток
Глядит из каменного горла.
Это не державинская культура смерти и забвения, а культура памяти и ученичества:
торжествует память – пусть ценою смерти: умереть значит вспомнить, вспомнить значит умереть… Вспомнить во что бы то ни стало! Побороть забвение – хотя бы это стоило смерти…[123 - Статья «Скрябин и христианство» (1917). Йерушалми в «Захор» пишет: «только в Израиле, и нигде больше, предписание помнить ощущается всем народом как религиозный императив».]
В финале «Грифельной оды» осевая мысль возвращается: жизнь есть учеба, эстафета знания, а знание – благодать:
И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света.
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, погружая в стык,
Кремень с водой, с подковой перстень.
Христианство повествует о Фоме неверующем, вложившем персты в рану Иисуса, чтобы убедиться в его божественности. Мандельштам?иудей вкладывает персты в Путь, как в поток времени?памяти, он же и «кремнистый путь», из старой песни движения горных пород.
Здесь пишет сдвиг. На месте сдвига остается стык – важный образ у Мандельштама, стык кремниевых пород и стык звезд. Если у раннего Мандельштама звезды «грубые», «жестокие», «колючие», то у позднего – звездное небо становится многоочитым, как чешуя, звездным форумом, народным собранием звезд, подобно собору всех некогда живших на земле. Оно же – «небо крупных оптовых смертей»[124 - «Стихи о неизвестном солдате» (1937).], и поэт берет на себя дерзость быть голосом этого неба?собора: «За тебя, от тебя, целокупное, я губами несусь в темноте…»[125 - Там же.]. И тогда «звезда с звездой – могучий стык», встреча, а встреча это – передача. Встречаются, чтобы передать друг другу нечто самое важное – поделиться памятью.
Мандельштам вкладывает в этот стык «кремень с водой, с подковой перстень». Вода и камень – две основы природы, твердая и текучая. Вода камень точит (а кремень – самый твердый камень), и он становится «дневником погоды, накопленным миллионами лихолетий; он не только прошлое, но и будущее… Он аладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен». Взаимодействие воды и кремня – метафора эволюции. А подкова и перстень – символы преемственности, передачи эстафеты в беге?потоке жизни. Подкова еще и знак удачи – благосклонности небес, она «высекает искры из кремня»[126 - «Нашедший подкову» (1922).], а искры – божественные частицы (душа – искра Божия). Перстень в Библии – знак власти, как печатью им скрепляли свое веское слово, и передавали перстень?печать в дар или по наследству. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою», сказано в Песне Песней. М. Гаспаров в его классическом разборе «Грифельной оды»[127 - М. Гаспаров, ««Грифельная ода» Мандельштама: история текста и история смысла».] пишет: «и тот и другой предмет – хранители памяти, главной темы стихотворения Мандельштама». В другом месте он называет поэта «носителем культурной памяти».
Державин в Оде, по Гаспарову, – творец?учитель?патриарх «с грифельной доской в руках среди Ликея кремневых гор». Но в дальнейшем Гаспаров подмечает, что «Державин здесь стилизуется под овечьего патриарха», а «овечий мир» в этом стихотворении есть мир «докультурного беспамятства… виноградно?овечьего застоя», и что по ходу стихотворения «образ Державина открыто отвергается во имя новых, «геологических» концепций происхождения поэзии». Чабанью шапку из строк «Мы стоя спим в густой ночи/Под теплой шапкою овечьей», что перекочевала в стихотворение с «портрета Державина работы Тончи», он называет «”теплой шапкой” притупляющего овечьего существования». А «вокруг – густая ночь, пока еще не творческая».
Такими же «овечьими патриархами» были и бедуины, что «закрыв глаза и на коне» слагали вольные былины. И четвертая строфа «Грифельной оды» прямая перекличка и спор с «поэзией бедуинов»[128 - В категорию «бедуинской поэзии» попадал и Гумилев с его «Я люблю – как араб в пустыне/Припадает к воде и пьет…» («Я и Вы», 1917)…]. В стихотворении «Отравлен хлеб» они слагают вольные былины «о смутно пережитом дне», им «немного нужно для наитий» – достаточно простых «событий», дневных впечатлений обыденной жизни («кто потерял в песке колчан, кто выменял коня»), в этой поэзии нет ни христианства, ни какой?либо иной «метафизики», это описательноперечислительная поэзия «докультурного беспамятства». Мандельштам в «Грифельной оде» (и вообще) отвергает всякую описательность и перечисление случайных событий, «дневные впечатления» – мертвый сор, в лучшем случае – птенцы, слетевшие с руки.
Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
От «пестрых дней» и «событий», не соединенных нитью культурной памяти, ничего не остается.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья.
Сланцевая доска патриарха Державина названа иконоборческой, потому что его чеканные строки о смерти по сути антихристианские, это поэзия «докультурного беспамятства» дикая, овечья, бедуинская. Мандельштам гонит прочь «дневные впечатления», стряхивает с руки эти «прозрачные виденья», потому прозрачные, что едва родившись, они исчезают, тают – «прозрачность» у Мандельштама всегда признак загробной «тени». Здесь вызов не только Державину, но всей описательной, событийной, «бедуинской» русской поэзии[129 - Городецкий считает «Грифельную оду» «манифестом ухода Мандельштама от русской языковой картины мира» (сокращенно ЯКМ). Анализируя в частности строки «Нет, я не каменщик прямой, / Не кровельщик, не корабельщик, / Двурушник я, с двойной душой…», он подмечает, что несмотря на «априорную позитивность» в русской ЯКМ «прямоты» и негативность «кривизны», Мандельштам не только подчеркивает (и в этом тексте, и во многих других) свое двурушничество и кривизну («чертова» фамилия поэта «криво звучит, а не прямо»), но и выделяет «кривизну» как положительное качество, например, называет речи почитаемого им Андрея Белого «запутанными, как честные зигзаги» (в цикле на смерть Белого), пишет о Ереване: «улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны». [Интересно, что Целан декларирует свое родство с Мандельштамом, «называя кривым как свой нос, так и свою речь» (Анна Глазова, «Воздушно?каменный кристал. Целан и Мандельштам», НЛО №5, 2003).] В то же время «прямоту» он наделяет отрицательными коннотациями, например, «как виселица прям и дик», характеризует Сталина как «непобедимого, прямого», а «одной из замечательных особенностей дантовской психики» считает «его страх перед прямыми ответами».].
4. Египет и Иосиф Прекрасный
Если «Грифельная ода» – итог спора с Державиным, то стихотворение «Отравлен хлеб и воздух выпит» – его начало. Последняя строфа как бы перечеркивает державинский ужас перед цунами смерти:
И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец.
Остаются не только пространство и звезды, то есть Космос (куда ж ему деться), но и певец, его песня, а значит – слово. Оно, как кровь, – квинтэссенция и эстафета жизни.
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…[130 - «Батюшков» (1932).]
Не случайно и любимый Мандельштамом Батюшков, поэт вечных снов, как образчиков крови, тоже опровергает Державина:
Жуковский, время всё проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..
Знание и жизнь не исчезают, а накапливаются, как геологические наслоения горных пород – вот философия Мандельштама, для него и природа исторична (геологические слои). Песни слагаются, передаются другим и меняют строй этой жизни, лепят опыт из лепета, они сами и есть – метафизика, хотя бы на уровне благоговения. В них есть, по выражению Жака Маритена «метафизический эрос». Они – накопленное сокровище, передаваемое, как эстафета.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И, как свою, ее произнесет[131 - «Я не слыхал рассказов Оссиана» (1914).].
А теперь, разобрав смысл трех последних строф стихотворения «Отравлен хлеб», как спора?противостояния Державину и, условно говоря, «бедуинской» (пространственной, языческой) линии русской поэзии, вернемся к вопросу: какова же связь этой «державинской линии» с первой строфой об отравленном хлебе и выпитом воздухе[132 - «Выпитый воздух» – повторяющаяся метафора у М?ма, означающая удушливость, предсмертное состояние, так в стихотворении «Телефон»: «Весь воздух выпили тяжелые портьеры… Самоубийство решено». То есть тоска героя в первой строфе стихотворения «Отравлен хлеб» поистине смертная…], о душевных ранах и тоске Иосифа Прекрасного?
Библейский рассказ об Иосифе, проданном братьями в Египет, одна из самых важных назидательных историй о «судьбе человека», его образ Иосиф Мандельштам частенько примерял на себя. В христианстве, прежде всего в православии, почитают Иосифа Прекрасного, сына Иакова, как Иосифа Праведного, или Иосифа Целомудренного, он считается пророческим прототипом Иисуса Христа. Так родоначальник Иаков, названный Израилем, «любил Иосифа более всех сыновей своих <…> и сделал ему разноцветную одежду» (Быт. 37:3), а Христос, де, тоже был возлюбленным сыном Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Мф.3:17); и продан был Иосиф за двадцать сребреников (Иисус – за тридцать), и продавший его брат звался Иудой, ну и т.д. Мандельштам, надо сказать, примеривал на себя и образ Христа («получишь уксусную губку ты для изменнических уст»). А в эпоху безответного «романа со Сталиным» поэта привлекали мечты о признании фараоном его заслуг, избавлении от унижений и вознесении к славе[133 - Об этой «славе» в стихотворении «Канцона» («Слева сердце бьется, слава, бейся!»).]:
«Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы дух божий?» После этого, обратясь к Иосифу, он сказал: «Так как бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». При этом он дал ему свой перстень, одел его в виссонные одежды, возложил ему на шею золотую цепь, велел везти его в своей колеснице и возглашать: «Преклоняйтесь». «И поставил его над всею землею египетскою» (Быт., гл. 41, ст. 38, 39, 42, 43).
Этот библейский эпизод считается прообразом славного Воскресения Христа…
В Египте библейский Иосиф отличился тем, что в годы хороших урожаев запасся хлебом, а когда настали «тощие» годы, спас этими запасами не только египтян, но и своих соплеменников. Несомненно, что выражение «отравленный хлеб» в названии стихотворения связано с тем, что ветхозаветные евреи, переселившись в Египет, страну хлебную, под сановное крыло Иосифа, спаслись от голода, но лишились свободы, оказались пленниками этой страны.
«Египет» для Мандельштама – метафора России[134 - Среди евреев принято было сравнивать пребывание в России с пленом египетским. Шалом?Алейхем, например, называл Киев «Егупецом». Л. Видгоф пишет в книге «Статьи о Мандельштаме» (статья «О «начальнике евреев» и «малиновой ласке»«): «Москва – столица нового Египта». У Мандельштама частенько проскакивает в контексте Петербурга или России эпитет «египетский»: «Я не стоял под египетским портиком банка» («С миром державным…», 1931 г.), «полотеры пляшут с египетскими телодвижениями» («Египетская марка», 1928 г.) а когда он говорит, что «в жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может египетской и ассирийской» (статья «Девятнадцатый век», 1922 г.), то имеет в виду Россию (Сталина он называл «ассирийцем»).]. В одном из последних стихотворений «Чтоб приятель и ветра и капель…» (1937) он противопоставляет внутреннюю свободу поэта «государственному строю египтян», что «украшался отборной собачиной», «наделял мертвецов всякой всячиной и торчит пустячком пирамид» (намек на Мавзолей с мумией Ленина – воистину египетский памятник[135 - На мой взгляд, именно этой мумии вождя, спрятанной в горку Мавзолея, посвящено стихотворение «Внутри горы бездействует кумир…» Мумия, как метафора Египта, застывшей страны, усыпленного времени.Кость усыпленная завязана узлом,Очеловечены колени, руки, плечи,Он улыбается своим тишайшим ртом,Он мыслит костию и чувствует челомИ вспомнить силится свой облик человечий.(1936)]). Себя же он отождествляет с бесшабашным?безбашенным Франсуа Вийоном:
То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно?грешный певец, —
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий…
Это его, Мандельштама, скрежет зубовный («так гранит зернистый тот тень моя грызет очами»), это для него поэзия – «ворованный воздух», это он озорует[136 - «После полуночи сердце ворует/Прямо из рук запрещенную тишь./ Тихо живет – хорошо озорует…» (1931).] «рядом с готикой», так напоминающей своей грандиозной мощью египетские пирамиды. И также как заключенный в тюрьму и приговоренный к смерти Франсуа Вийон, он жил в плену и под угрозой смерти. Слово «Египет» для еврея прочно связано с пленом и рабством. Не только плен библейского Иосифа, умудрившегося, будучи пленником, сделать карьеру при дворе фараона, но и плен всего еврейского народа, оказавшегося в египетском рабстве. Освобождение от него евреи празднуют каждую весну. Одно из важнейших своих произведений в прозе Мандельштам назвал «Египетской маркой». Его главный герой Парнок, так похожий на самого автора, мечется по Петербургу, будто мышь на пожаре, в предсмертной панике. Парнок – образ запуганного, пойманного еврея. Он же – комарик из Египта с его еврейскими «извинениями».