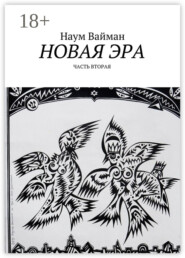По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Похвала любви. Истории и притчи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, бывает, – сказал я многозначительно.
– Не хочешь погулять?
– Погулять?..
– А еще лучше – приезжай к нам. Дед на даче, мамы допоздна не будет.
Когда я вошел, она обняла меня и поцеловала.
– Ух, как я соскучилась!..
И меня, со всеми обидами, потянуло в воронку любви, и я закружился в ней круг за кругом, все быстрей и быстрей… Не знаю, сколько прошло времени. Мы лежали рядом, уже разделенные, только ее рука на моем предплечье. Мир проявился: небольшая комната, низкая тахта, этажерки с книгами, в основном учебниками, хула-хуп у стены, портрет Хемингуэя в свитере на всю стену.
– Почти месяц не виделись, – сказал я с легким упреком.
– Да…
– Какие новости?
– Да много всякого… Иду работать в Институт Телевидения. Чудом попала, я очень довольна.
– Молодец.
– А ты чего делал?
– Стихи писал, – сказал я ворчливо.
Она усмехнулась:
– А я вдруг поняла, что очень хочу тебя видеть…
– Когда ж ты это поняла?
– Вчера. Или даже позавчера.
– Что ж такое произошло позавчера?
– Замуж вышла.
– В каком смысле?
– В каком смысле выходят замуж.
Помолчали. Я не знал, как мне расценить ситуацию и как вести себя дальше.
– И что… он…
– Да с ним все в порядке, он классный мужик, будет хорошим мужем, я его люблю. Но дело не в этом, я вдруг почувствовала, что ты мне нужен… Что я не могу без тебя. Твои руки, как ты меня ласкаешь… И вообще… Даже стихи… вот, перечитала то, что ты мне написал и… позвонила.
Вот так, едва начавшись, кончилась моя «любовь», и начался первый роман с замужней женщиной.
Прежде всего, он научил меня тому, что нечего рассчитывать на то, что ты единственный (я даже не был единственным любовником).
Почувствовать себя «Единственным», ощутить значимость собственного существования – вот что привлекает мужчину в любви с женщиной. Любовь – грелка для тщеславия.
Где-то в конце сентября она уехала в Алжир. Муж, старше ее года на три (она все-таки показала его фотографию), высокий, деревенского вида парень, типичная «опора режима», закончил закрытый институт военных переводчиков (арабский-французский) и работал в МИДе. К зиме Вера Петровна тоже вышла замуж и переехала к мужу, и Петр Наумович остался один. Немного сник, но режим по-прежнему соблюдал («Главное – дисциплина!»): два раза в день легкая зарядка с гантелями (килограмма три), всегда тщательно выбрит и аккуратно одет, даже дома. Иногда я помогал ему «по интендантской части», иногда мы вместе прогуливались до парка ЦДСА. Но со временем я стал заходить все реже – загульное было время, да и наши разговоры шли как-то по кругу: евреи, смерть, история, повторяясь и уже раздражая меня – я становился злым и циничным. Однажды застал у него двух странных иудеев в драных заячьих шапках, которые они не снимали, подумал: уж не собрался ли старик в самом деле иудаизм принять? Он не отпустил меня (я зашел отдать очередную порцию книг), а когда они ушли, достал свою наливочку, остатки…
– Давай-ка выпьем… Я письмо получил от Ленки. Фактически первое письмо. Были еще две открытки… Спрашивает, заходишь ли ты. Кажется, и этим письмом я обязан тебе… А Вера не заходит. Звонит иногда, спрашивает, не надо ли чего. А евреи вот заходят. Да, верующие, но это по книжным делам. Я ведь библиотеку продаю. Не всю, так, по книжке… Деньги нужны. Квартиру убирать надо, готовить. Они мне и женщину нашли, евреечку, ничего так, не старая еще…
Однажды мы шли по бульвару, мимо цирка Дурова к парку, знакомые с отрочества места, была хорошая погода: прохладно и солнечно, слетала последняя листва, и живописная грязь тропинок невольно наводила на мысль о палитре художника.
– Я в последнее время стал хуже видеть, – сказал Петр Наумович, – перехожу иногда Садовое, и потоки машин сливаются в такое цветное мелькание, вроде листопада… А ты о смерти думаешь?
Я смутился. Он заметил это и сказал:
– Нет, это не потому, что старость, я в юности гораздо больше думал о смерти. Хотя гораздо меньше ее боялся… Скажи, ты собираешься уезжать? – вдруг спросил он со своей обычной прямотой римлянина.
Я сделал вид, что не понял, куда он клонит, и стал придуриваться:
– Куда?
– Куда-куда, в Израиль, – произнес он с ударением на последнем слоге, передразнивая государственных руководителей.
Борьба за эмиграцию уже шла во всю, и я, конечно, думал об этом, но уезжать не хотел. О чем и сказал ему.
– Почему?
– Не знаю… И люблю эту бедную землю, оттого что другой не видал…
– История этой державы заканчивается. Заходит в тупик. Надо думать о будущем.
– Об «историческом», что ли? Какое мне дело до истории? А если я просто хочу стихи писать и, кроме как по-русски, ни на каком языке не смогу? Это как без души остаться.
– «Душа»! – произнёс он с сарказмом, почти зло. – Так ты ничего про историю и не понял. Душа и есть – история. Так что, выбрав историю, выбирают и душу. Не всегда есть свобода выбора, но если она есть…
– А чем русская история плоха? Раз уж родился в России…
– То, что мы называем «Россией» – это всего полтораста лет онемеченной имперской государственности от Екатерины до Октября. Русские государства вообще создавались либо варягами, либо монголами, да-да, монгольское «иго» – эпоха консолидации русской государственности, либо немцами. А этот Египет, – он кивнул в сторону, – держался только благодаря еврейским мамлюкам. Советское государство было еврейской мечтой, но когда их от мечты отлучили, этот механизм потерял пружинку. Еще четверть века и – стоп машина, жди новой управы. У русских нет мифа, ради которого стоит жить, я уж не говорю – умирать, религия – служанка власти, и если завтра победят мусульмане, русские будут молиться Магомету, как молились Сталину после Христа. Чаадаев писал, что если бы мы не раскинулись от Одера до Берингова пролива, нас бы просто не заметили. Чаадаева надо учить наизусть! Он первый, и чуть ли не единственный, кто решился сказать, что русская история бездарна. А бездарность не может существовать вечно. И конец уже близок. Конец истории и конец души, той самой «русской души», с которой ты носишься как с писаной торбой. Ты вот спрашивал, почему меня так интересуют евреи. А потому что еврейская история – это вызов судьбе, вечный вызов всему и всем, это единственная пьеса, которая отказывается сойти с исторической сцены, потому что это подлинная трагедия гибели и возрождения, и евреи продолжают ставить её в каждом поколении. И это зрелище вдохновляет, вселяет надежду…
– Ну, это уже какая-то эстетизация истории, вы подходите к ней, как зритель к театральному представлению – ищите в ней вдохновения. А в истории приходится жить. Вряд ли вам захочется сейчас вернуться в годы войны, хотя через сотню лет все эти ужасы станут «величественным зрелищем». Если бы человеку можно было выбирать страну и историю, то каждый выбрал бы Швейцарию.
– Ты не прав. Вдохновение – не для праздности, не для развлечения, это жизненная необходимость. Жизнь должна вдохновлять, или – кончен бал. И это вдохновение может дать только история.
– А любовь?
– Любовь… Любовь скорее относится к опьянению… Нет-нет, любовь лишь иллюзия вдохновения, обманка. Сильная, но кратковременная. Я бы сказал сезонная. Любовь может быть вдохновением жизни только для женщины.
Когда Лена вернулась, я уже был женат. Но все началось снова. Первое время мы маялись по чужим квартирам, но потом «поселились» у Петра Наумовича. Поначалу я чувствовал себя довольно неловко: ведь мы явочным порядком поставили его в двусмысленное положение, но она уверяла, что «всё путем». И действительно, со временем все освоились с новой ситуацией и даже привыкли к ее очевидным выгодам, для каждого – своим. Он, стараясь избавить нас (да и себя, надо полагать) от лишних неловкостей, отправлялся перед нашим приходом на прогулку, а мы старались не шуметь, когда он возвращался, шебуршились, как мыши, в своем углу.