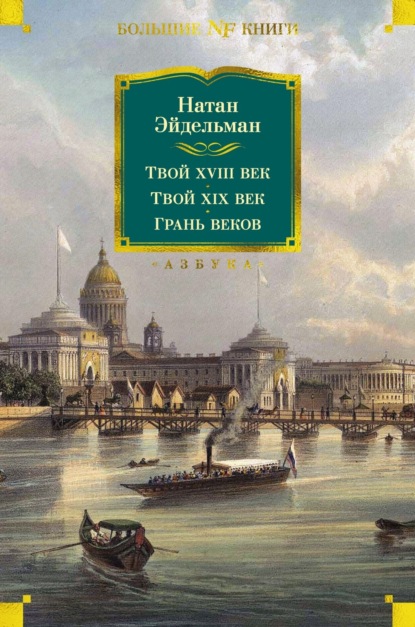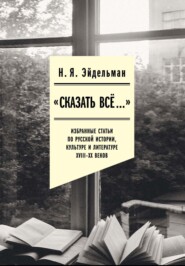По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Твой XVIII век. Твой XIX век. Грань веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола».
Итак, Ганнибал, по рассказу Пушкина, чуть не лишился головы вслед за бывшим послом Василием Долгоруким (в свите которого некогда возвращался из Франции), вместе с другими противниками Анны Иоанновны. Влиятельный полководец Миних чудом спас… С политическими неприятностями приходят семейные, и наш герой осенью 1737-го – давно в печали, отставке: в своей деревне вспоминает славные петровские годы и ожидает…
Мы теперь точно знаем, что Ганнибалова деревушка (вернее, хутор, мыза) называлась Карьякула и находилась в тридцати верстах юго-западнее Ревеля (нынешнего Таллина): пять крестьянских хозяйств и не намного большее помещичье… Знаем также, что с первой женой отставной майор расправился куда страшнее, чем это представлялось поэту: согласно материалам бракоразводного дела, обнаруженного много лет спустя, муж «бил несчастную смертельными побоями необычно», обвиняя жену (и, кажется, не без оснований) в попытке его отравить; много лет держал ее «под караулом», на грани голодной смерти. Война супругов, продолжавшаяся много лет, завершилась разводом и отправкой Евдокии Андреевны из Петербурга в Тихвинский монастырь.
О, Ганнибал! Где ум и благородство!
Так поступить с гречанкой! Или просто
Сошелся с диким нравом дикий нрав.
. . . . . . . . . .
Мне все равно. Гречанку жаль, и я
Ни женщине, ни веку не судья[1 - Из поэмы Д. Самойлова «Сон Ганнибала».].
К осени 1737 года Ганнибал уже был отцом двух «черных детей»: старшего сына Ивана, будущего знаменитого генерала, и старшей дочери Елизаветы (да сверх того – от первого брака – нелюбимой Поликсены). До рождения пушкинского собеседника Петра Абрамовича Ганнибала оставалось пять лет, до появления на свет прямого деда Осипа Абрамовича – семь лет…
Картина вроде бы ясна, но опять, опять раздается глас «историка строгого», который придирается к складному пушкинскому рассказу. Оказывается, тайное житье в эстонской деревне, боязнь, что обман откроется, – все это, по мнению авторитетных современных исследователей, «легенда, далекая от действительности».
На этот раз речь идет уже не о частном, хоть и эффектном эпизоде – встречал царь Петр черного крестника или не встречал? Тут спорят о целом десятилетии ганнибаловской жизни, об отношениях с грозной властью Анны и Бирона…
Документы свидетельствуют, что, возвратясь из Сибири, майор Ганнибал… поступил на службу, то есть отнюдь не скрывался, а был на виду: два года, с 1731 по 1733 год, он занимал должности военного инженера и преподавателя гарнизонной школы в крепости Пернов (нынешнее Пярну). Потом действительно семь лет просидел в деревне – но совсем не тайно – и время от времени сам напоминал правительству о своем существовании: например, просил императрицу Анну об увеличении пенсии, но получил отказ…
Итак, опять ошибка или неточность?
Да, несомненно.
Но, оказывается, бывают ошибки не менее любопытные, чем самые верные подробности.
КОЛОКОЛЬЧИК
Мемуары Ганнибала по-французски и другие «драгоценные бумаги» – сколько б мы отдали, чтобы прочесть их! Одно дело немецкая биография, составленная родственником через несколько лет после кончины самого рассказчика, совсем другое дело – его собственноручные записки, наверное весьма откровенные, если было чего «панически бояться»; кстати, французский язык, столь распространенный среди дворян конца XVIII и начала XIX столетия, в петровские времена считался еще отнюдь не главным и уступал в России немецкому, голландскому; пожалуй, лишь с 1740-х годов, когда новая императрица Елизавета Петровна сильно ослабила немецкое и усилила французское влияние при дворе, – пожалуй, только тогда французский начинает брать верх. Так что, сочиняя по-французски при Анне Иоанновне, Арап Петра Великого все же был в большей безопасности, чем если бы писал по-русски, по-немецки… Но вот что любопытно: в немецкой биографии ни слова о сожженных записках, о страхе. Это понятно: там ведь о покойном Абраме Петровиче говорится только хорошее; но от кого же Пушкин дознался о паническом сожжении записок? Наверное, все тот же Петр Абрамович, который, вручая внучатому племяннику немецкую биографию, мог вздохнуть о французской… Сказать-то сказал в 1824-м или в 1825-м, но Пушкин с «особенным чувством» эту подробность запомнил и десять лет спустя внес ее в свою «Автобиографию».
Насчет «особенного чувства» мы не фантазируем, но уверенно настаиваем: дело в том, что на несколько страниц раньше та же самая пушкинская «Автобиография» начиналась вот с каких строк: «…в 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв».
Итак, Пушкин «принужден был сжечь свои записки», Ганнибал «велел их при себе сжечь».
В потомке повторяется почти буквально история предка, и не один раз, а постоянно в начале 1830-х годов поэт запишет о дедах: «Гонимы, гоним и я».
Подобные сопоставления – может быть, ради них и разговор о предках ведется:
Упрямства дух нам всем подгадил…
Не вызывает никаких сомнений, что много раз, рассказывая о Ганнибале и других пращурах, Пушкин сознательно сопоставляет биографии, выводит «семейные формулы». Но иной раз это происходит неумышленно – и тем особенно интересно!
Страх старого Ганнибала – страх колокольчика… Пушкин не утверждает прямо, будто записки были сожжены при звуке приближающейся тройки; зато известный историк Дмитрий Бантыш-Каменский со слов Пушкина записал о Ганнибале, что в уединении тот занялся описанием истории своей жизни на французском языке, но однажды, услышав звук колокольчика близ деревни, вообразил, что за ним приехал нарочный из Петербурга, и поспешил сжечь свою интересную рукопись.
Итак, колокольчик…
Колокольчику под дугою лихой тройки Пушкин посвятил немало знаменитых строк:
Колокольчик однозвучный утомительно гремит…
Колокольчик вдруг умолк…
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальной
Порой волнует сердце нам…
Колокольчик – это дорога, заезжий друг или – страх, арест, жандарм… Январским утром 1825 года в Михайловском зазвенел колокольчик Пущина:
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Как любопытно, что и прадед переживал те же самые чувства… Как важно…
Одно плохо —
НЕ БЫЛО КОЛОКОЛЬЧИКА
Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) – один из самых интересных людей, которых я встречал. Он написал для школьников немало прекрасных книг о людях конца XVIII – начала XIX века («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и другие)… Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жалованье инвалида, состоящего при шлагбауме, или о деталях конской сбруи 1810-х годов, – все точно, все так и было, и ничуть не иначе!
Удивляться этому не следует, ибо Глинка-писатель был и крупным ученым, который работал во многих музеях, был главным хранителем русского отделения Государственного Эрмитажа и великолепно знал немыслимое количество людей и вещей прошлого…
Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца, Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:
– Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего… Зато какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной – «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете… Звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, – значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины, но эдак годам к тридцати пяти – сорока, а ваш мальчик лет двадцати… да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820–1830-х годах еще не носили. Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.
Так что никак не получается декабрист – а вообще славный мальчик…
Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, написавшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки», особые застежки на гусарской куртке – доломане, были введены через несколько лет после гибели Лермонтова (указывается точная дата).
«Мы с женой целый вечер смеялись…»
Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения насчет старшего Ганнибала, его записок и колокольчика.
– Не слышу колокольчика, – сказал Владислав Михайлович.
– То есть где не слышите?
– В начале, в середине XVIII века не слышу, да и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню колокольчиков под дугою: и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал…
Не помнил Владислав Михайлович колокольчика при Петре Великом и ближайших его преемниках; не помнил и предложил справиться точнее у лучшего, по его мнению, знатока «колокольных дел» Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке: не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: часто на колокольчике стоит год изготовления… Самый старый из всех известных – 1802, в начале XIX столетия…
Впрочем, по разным воспоминаниям и косвенным данным, время появления первых ямщицких колокольчиков под дугою относится к 1770–1780-м годам, времени правления Екатерины II.
Значит, Ганнибал если и мог услышать пугавший его звон, то лишь в самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем не страшном для него правлении «матушки Екатерины II». Итак, во-первых, прадед не так уж боялся, совсем не скрывался даже в 1730-х годах, а во-вторых, колокольчика не слыхивал…
Что же истинного в пушкинской записи? Прежде всего, что Ганнибал вообще-то побаивался… Ведь недавно из Сибири вернулся, знал, как одних волокут на плаху, а других – в каторжные рудники.
Так что общий тон тогдашней эпохи, возможность легкой гибели – все это и через несколько поколений дошло к поэту, схвачено им верно.