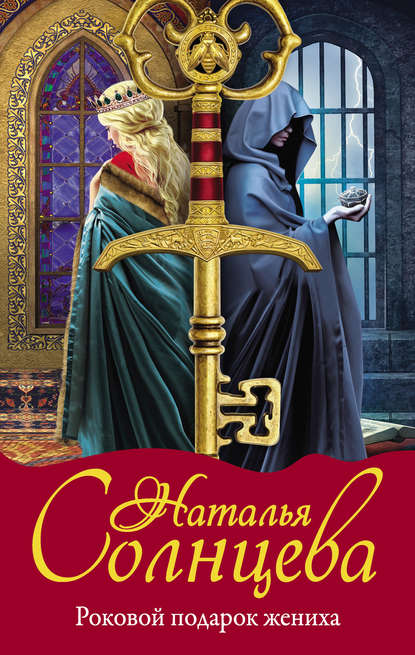По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роковой подарок жениха
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На исходе лета 1622 года старица Ольга совсем ослабела. Она с трудом поднималась с ложа, долго молилась у образов в углу кельи, потом садилась к окошку и глядела во двор монастыря. Мимо ходили сестры в черных покрывалах, чуть в отдалении белели березы. В листьях уже пробивалась желтизна. Волосы Ольги тоже рано побелели от пережитого. Чем ближе подкрадывалась к ней смерть, тем чаще она ощущала себя не стареющей инокиней, а пленительной и гордой принцессой, рожденной царствовать. Ее имя – Ксения Годунова…
Она все помнила до мелочей – и внезапную кончину любимого батюшки, и страшные дни смуты, и то, как на ее глазах удавили брата Федора и матушку… Ксению самозванец велел пощадить, «дабы ему лепоты ея насладитися еже и бысть»…
Вот он, диавол в царском обличье, беглый монах-расстрига Гришка Отрепьев, холоп из холопов, который при помощи польских сабель и колдовского ухищрения уселся на царский трон и стал править на Москве! Всех одурачил, опутал своими чарами – и польского короля, и русских бояр, и народ, и мать убиенного в Угличе царевича Дмитрия, коим назвался. «Неведомо каким вражьим наветом прельстил царицу и сказал ей воровство свое. И она ему дала крест злат с мощьми и камением драгим сына своего, благовернаго царевича».
Инокиня Марфа – бывшая царица Мария Нагая – прилюдно признала шельму своим родным сыном! «Новый царь» въехал в столицу верхом, в раззолоченной одежде. Самозванца сопровождали польские всадники, бояре и окольничие[9 - Окольничий – в Древней Руси один из высших придворных чинов.]. По обеим сторонам дороги толпились москвичи – приветственные крики заглушали перезвон колоколов.
Ксении казалось, она вот-вот проснется, и рассеется жуткий сон – исчезнет приземистый уродец, которого с хоругвями и святыми образами ожидали в Кремле архиереи… Но уродец беспрепятственно помолился в Кремлевских соборах, а после лил притворные слезы на гробу «отца своего» – Иоанна Грозного.
Видать, Гришка заключил договор с нечистым, и тот посадил его на царство Московское. Не иначе, как в бесовском тумане присягали воеводы расстриге, сдавали ему города и крепости, а крестьяне и посадские люди встречали его хлебом-солью.
Ксению заперли в доме князя Рубец-Мосальского, приказали ждать, пока потребует ее к себе «государь»…
– Гляди, не вздумай перечить царю! – строго предупредил ее князь. – Он тебя помиловал, ты ему должна ноги целовать! А станешь противиться, он разгневается, еще убьет тебя ненароком. Силища у него, ух! Не гляди, что мал. Подковы гнет шутки ради!
С улицы доносились крики, шум, стук копыт и выстрелы. Пахло пылью и пороховой гарью. Пьяные шляхтичи бесчинствовали в столице, волокли к себе на потеху молодых женщин и девушек, грабили богатые дома. Панские гайдуки стреляли в воздух, громили лавки и винные погреба…
Ксения помнила, как обмерла, увидев Дмитрия вблизи. Низкого роста, неуклюжий, с непомерно широкими плечами и короткой «бычьей» шеей, он был безобразен. Одна рука длиннее другой, волосы рыжие, лицо противное, с большими бородавками на лбу и щеке. «Царь» поднял на Ксению бесцветные водянистые глаза, облизнулся…
Рубец-Мосальский, который привел ее в покои самозванца, поспешил удалиться.
– Иди сюда… – промолвил Дмитрий. – М-ммм! И правда, хороша! Не врали людишки…
Он был одет в желтую шелковую рубаху, подпоясанную по-московски, штаны и сапоги светлой кожи. Ксения боялась упасть, так онемели ноги.
Что было потом, лучше забыть навсегда…
Старица Ольга трижды перекрестилась и смиренно опустила очи. В монастырских стенах негоже предаваться греховным мыслям. Токмо не вырвать из памяти тех долгих дней и ночей, проведенных в объятиях палача всех ее родных, кособокого чудовища с железной хваткой и бесстыжей ухмылкой… Уж и терзал он ее, и мучил, приговаривая: «Сладка царская кровь… как мед! Сладки чистые уста… Не для меня ли сберегла свое девство, царевна?» И хохотал, запрокидывая голову, показывая неровные зубы. Ксения лежала на скомканных простынях ни жива ни мертва, содрогаясь от ужаса и отвращения. А он снова приникал к ее груди, не целовал – кусал, не ласкал – щипал, мял, заламывал руки, сдавливал шею, пока не захрипит, не застонет. Выдохшись, расплетал ей косы, приказывал стоять посреди опочивальни нагой, едва прикрытой волосами, а сам ходил кругом со свечой, щупал ее тело, причмокивал…
– Чего дрожишь? – спрашивал. – Думаешь, мало дед твой, Малюта Скуратов[10 - Малюта Скуратов – прозвище Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, приближенного Ивана Грозного. Был главой опричного террора, участвовал во многих убийствах и казнях, отличался крайней жестокостью. Борис Годунов женился на его дочери.], девок попортил, мало поизмывался над ими? А сколь кровушки дворянской пролил, не сосчитать! Он забавлялся, а тебе платить… Ты проклята! Все вы, Годуновы, прокляты! Зачем я тебя живой оставил, не догадываешься?
– Ты бес! – захлебывалась слезами Ксения. – Бес!
Дмитрий не отпирался, злорадно посмеивался.
– А ты, дьяволица, разжигаешь меня… Из-за твоей красоты я к невесте своей остыл, к ясновельможной панне Марине[11 - Марина Мнишек – дочь польского магната, на которой Лжедмитрий обещал жениться и сделать русской царицей в обмен на военную и денежную помощь поляков.].
Больно охоч до женского полу оказался самозванец: приводили к нему и молодых боярских жен, и дочерей, и даже монахинь… Натешившись с ними вдоволь, он неизменно возвращался к Борисовой дочери.
– Присушила ты меня, приворожила, – шептал. – Чертовка! Изголодался я по твоей белой коже, по твоим жарким губам…
Рвал в нетерпении ее вышитую сорочку, наваливался своим коротким тяжелым телом, часто дышал в лицо, обдавая запахом яблочного вина, с животным наслаждением вгрызался в ее плоть… Казалось, не человек он вовсе – демон похотливый, жадный до удовольствий, с силою зверя, со страшным бесцветным взглядом. От этого взгляда Ксения цепенела, теряла всякую волю к сопротивлению, позволяла творить над собою поругание и срам, коих не представлялось ей в самом кошмарном сне…
Очнувшись от наваждения, она не могла понять, как до сих пор не умерла, как продолжает терпеть унижения и позор, подвергая себя насилию ненавистного тирана. Молиться Ксения не могла – уста ее сковывались, а по телу разливалась невыносимая боль. Предоставленная сама себе в запертых снаружи покоях, она бродила от стены к стене, ощущая всю бездну своего падения и взывая о спасении к покинувшему ее жениху. Но тот ее не слышал…
В конце лета, измучив Ксению своей ненасытной страстью, Дмитрий вдруг предложил:
– Хочешь, отпущу тебя, красавица? Денег дам, карету, коней резвых…
– Не верю…
– Опять правы люди, – заложив руки за спину, заявил новый «государь». – Умна ты больно, отроковицей еще славилась «чудным домышлением». Так просто не отпущу. Выкуп потребую. Отдай мне то, что оставил датский принц Иоанн…
Ксения отшатнулась, побледнела.
– Не знаю, об чем говоришь…
– Трепыхнулось сердечко? – ухмыльнулся расстрига. – Ты мне не лги, голубица! Не то перышки вмиг ощипаю!
– Ничего не знаю, – уперлась Ксения.
Круглое лицо самозванца со вздернутым носом побагровело от ярости, но он сдержался, сжал пальцы в кулаки.
– Врешь! Себе надумала дорожку к трону проторить. А нету в тебе истинно царской крови! Ни капельки! Отец твой, Борис, из простых опричников вышел, конюшим[12 - Конюший – лицо при царском дворе, ведающее конюшенным приказом.] служил моему батюшке Иоанну Грозному. Едино по слабоумию братца Федора Иоанновича до власти был допущен. А мать твоя – дочь гнусного злодея – через то в царицы выбилась. Они на мой престол посягнули!
Ксения, стараясь не смотреть ему в глаза, забормотала:
– Ты не сын царя, ты беглый инок, расстрига и вор, Гришка Отрепьев. Колдовством, волхвованием трон занял. Настоящий царевич в Угличе погиб, зарезался по неосторожности. Мамки проглядели! Он в ножички любил играть, а тут приступ падучей болезни случился, вот он и ткнул себя ножиком… Не виноват мой батюшка в его смерти! Не мог он…
– Борис вознамерился преступным путем надеть шапку Мономаха, – мрачно изрек самозванец. – Токмо меня верные люди спасли. Как сына княгини Соломонии! Не в разбойники же мне подаваться?
Ксения опустила голову, понурилась. Ей была известна печальная история Соломонии Сабуровой, жены Василия III. Родила ли она в монастыре сына, и куда потом исчез мальчик, оставалось загадкой.
Лицо самозванца без бороды и усов, по-европейски выбритое, просветлело, оживилось. Его настроение быстро менялось. Угрюмая задумчивость переходила в бурное веселье, а смех мог оборваться, разражаясь приступом злобы. Будто бы в нем сидели два разных человека.
– Подло поступил князь Василий со своей княгиней, – заявил он. – За то и поплатился! Молодая женушка его – чик, и спровадила на тот свет…
В такие моменты уродец казался Ксении чуть ли не пророком, дьявольской хитростью своей проникающим в чужие тайны. Может, и верно, что бес в него вселился…
– Хочешь, к венцу тебя поведу? – неожиданно предложил Дмитрий. – Честь по чести! Будешь не наложницей, а венчанной женой, царицей.
– Ты полячке обещался…
– Марина далеко, а ты рядом… Московиты к тебе привыкли, ты одной с ними веры, православной. А польская панна – католичка, ей креститься надобно. Некрещеную иноверку архиереи благословлять не станут и мирром не помажут.
Ксения молчала, не поднимая глаз. Соблазн был велик. Став государыней, она сможет отомстить боярам, посмевшим поднять руку на ее родных. А потом… хоть в омут головой.
– Гляди, пропадет твое счастье! – гнусавил самозванец. – Не хочешь в царицы, отправлю в монастырь, по вашему обычаю! Постригут тебя насильно, посадят в келью – попрощаешься с белым светом навеки.
– Я другого люблю, а ты мне не мил.
– У тебя, вдовица, никто любви не просит! Ты мне отдай трофей, который датский королевич сюда привез, а я тебе взамен – корону. Выбирай, боярышня: царство или монашество!
– Не мил ты мне, – дрожащим голосом повторила Ксения.
– А он мил? Почто тогда в монастырь не ушла после его смерти? Небось в верности клялась? Почто тогда не постриглась? У вас, московитов, так заведено… или я ошибаюсь?
– Твоя правда… лучше посвятить себя Богу, чем жить с немилым…