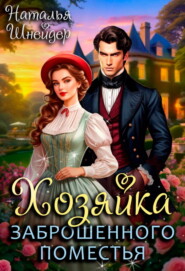По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Двум смертям не бывать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какого рожна ты тут делаешь?
– Не спится, – буркнул Рихмер, глядя снизу вверх и отчего-то не торопясь подниматься с каменного пола.
– Когда не спится, нужно к бабе под бок, а не по замку шататься. Или жена снова из постели выставила? Так нашел бы девку какую…
– Да ну ее, – брат махнул рукой. – Никуда не денется. Это ведь ты завтра уезжаешь, не она. Останусь тут опять один. В этом бабьем царстве. Пока не помру.
Он встал, пошатнулся, снова едва не смахнув на пол светец. Оперся о стол:
– Знал бы ты, как я тебе завидую… Ноги в руки – и поминай как звали. А мне тут с этими… расхлебывать.
Только сейчас Рамон сообразил, что от близнеца ощутимо несет хмельным. Вздохнул: похоже, выспаться перед дорогой не получится. Придержал Рихмера за локоть, усаживая на скамью.
– Погоди, сейчас приду. Попрошу, чтобы принесли горло промочить.
Брат мотнул головой, льняные волосы едва не задели огонь:
– Угу. Только вино не лезет. Пиво спроси, что ли.
– Я сейчас, – повторил Рамон и пошел будить слугу, от всей души надеясь, что, пока ходит, брата успеет сморить хмель. Каждый раз одно и то же. Сперва пьяные причитания, мол, как же все это надоело, пора, пора что-то делать. Потом отговорки, маменька заругает, жена пилить будет. Наутро – то ли притворные, то ли настоящие слова о том, что не помнит, что он ночью молол, да и спьяну чего только нести не начинают. Почему Рихмер слова поперек матери не скажет, Рамон не понимал, да и не пытался понять.
Он нарочито медленно шел до комнаты, где спали слуги, вместо того чтобы просто позвонить в колокольчик. Потом ждал, пока принесут хлеб, пиво и холодное мясо, оставшееся с вечера.
Рихмер сидел, опустив лицо на скрещенные на столе руки. Рамон решил было, что брат все-таки уснул и будить его не стоит, но тот поднял голову, едва слуга вышел, прикрыв за собой дверь.
– Пить будешь? – спросил Рамон. Не дожидаясь ответа, налил пиво в две кружки, положил ломоть мяса на хлеб. И так понятно, что будет, стоило бы иначе посередь ночи за хмельным ходить.
– Кажется, оставшийся год я не дотяну, – сказал Рихмер, принимая пиво. – Сопьюсь раньше.
– Год?
– Ну да. Даже меньше – двадцать нам когда стукнуло?
– Два года. Неполных. Но мне легче думать, что два.
– Думай – не думай… – Рихмер опустил кружку. – Авдерик погиб через день после того, как ему исполнилось двадцать один. А ты говоришь: два…
– В ту ночь многие погибли. На то она и война.
– Ты видел, как он…
– Нет. Я тогда изо всех сил пытался не скопытиться и не наложить в штаны. Утром узнал.
Рихмер кивнул. Покрутил кружку между ладоней, вздохнул:
– Видел бы ты, что с матушкой творилось, когда тело привезли. Я грешным делом думал – рассудком повредилась. Вызвала меня от господина, а как приехал – вцепилась, ни на шаг не отпускает. Барон приехал обратно просить, она в ноги кинулась – мол, не забирай младшенького, старшие в чужих краях, хоть один в горе опорой будет. Чуть со стыда не умер.
– А что барон? – поинтересовался Рамон.
– А что барон? Помялся-помялся, да и согласился. Так и остался при мамкиной юбке.
– Ты раньше об этом не рассказывал.
– А ты не спрашивал. – Рихмер заглянул в опустевшую кружку, потянулся за кувшином. – А когда про Лейдебода весть пришла, совсем плохо стало. Матушка, видать, все семейные хроники подняла, и началось. На реку нельзя, утонешь. На охоту нельзя – зверь загрызет.
Рамон хмыкнул:
– Книжки читать не запретила? А то двоюродный дед, если не врут, книгу на ногу уронил. Оковкой ступню рассадил, через неделю от горячки умер. И мыться бы надо запретить, один из наших предков…
– Смешно тебе. А я не знал, куда от соседей деваться. Зовут то в гости, то на охоту, а я мямлю, точно красна девица, – мол, маменьке плохо, в другой раз.
– Так не мямлил бы. Встал да уехал. Взрослый уже на маменьку оглядываться.
– Однажды попробовал. Чуть не сутки прорыдала, пришлось за лекарем посылать, испугались, что нервная горячка случится.
– Да ладно тебе. Она, говорят, ни на одних похоронах не плакала. Что над мужем, что над сыновьями – ни слезинки.
– Вот тебе и ладно, – вздохнул Рихмер. – Какое там «уехал», шагу боюсь ступить.
Брат помолчал, медленно выстукивая пальцами по столу неведомую мелодию. Подался вперед:
– Собирайся. Завтра поедешь со мной. Или сгниешь в этом болоте.
– Тебе легко говорить. Ты-то свободен.
Рамон усмехнулся:
– Свободен? Просто до меня никому нет дела. Вот и вся цена той свободе. Но если то, что она сделала с тобой, называется любовью – в гробу я видал такую «любовь». Собирайся. Третий раз предлагать не буду: времени на раздумья не осталось.
Рихмер опустил голову:
– Не могу. Спокойной ночи, брат.
* * *
Замок стоял на одном из холмов, окружавших огромную зеленую чашу долины. Дорога шла по дну чаши среди клочков крестьянских полей, потом снова поднималась, кружа между холмами, а после пряталась в лес.
Рамон со спутниками ехали под низкими ветвями. Здесь дорога казалась ненаезженной, еще не разбитой, да она и была такой в это время года, когда пора весенних ярмарок еще не наступила. Именно поэтому Бертовин обратил внимание на две цепочки следов, четко выделяющиеся в мокрой грязи. Следы сворачивали в самую гущу леса.
Всадник придержал коня, спешился. Увидев вопросительный взгляд Рамона, негромко проговорил:
– Проверю. Некому в это время по лесу шастать.
Рамон кивнул. Лесничие, конечно, свое дело знали, но уезжать, не проверив, не стоило. За дровами его крестьяне могли ходить лишь на особо отведенные делянки. И то среди соседей разрешение рубить дрова в господском лесу считалось неслыханным послаблением. Правду сказать, таких богатых лесов на соседских землях не было, там господа сами дрова покупали на вес.
Бертовин с парой спутников исчез среди подлеска, Рамон остался ждать. Долго скучать не пришлось: люди выволокли на дорогу парня и девушку.
Рамон хмыкнул было: заняться вам нечем, пусть их резвятся. Но следом за парочкой один из людей вынес наполовину ободранную косулю.