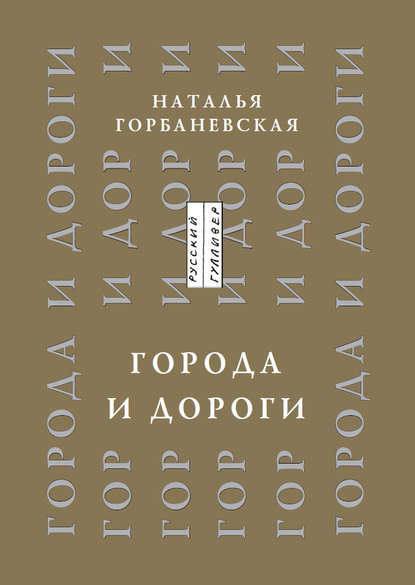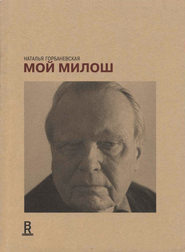По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Города и дороги. Избранные стихотворения 1956-2011
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
свинец.
Послушай, не слушай ничьих, ни моих уговоров, ни плача
и право же —
не слушай, как ветер вцепился в сосёнок колючие клавиши,
не слушай, навеки натянем купальные шапочки на уши,
нырнем под волну и, как щепки, взлетим над волною,
и кто мы, когда начинают стихии творенье иное,
и как добрести среди соли, песка и нежданного зноя
до синей полоски, где сходятся с хлябью земною
небесные тверди, до хлопанья кресел на титре «Конец».
Заглавие стихотворения – термин истории кино, у меня связанный с польским кино. Изображенный в стихотворении неопределенно-прибалтийский пейзаж похож не только на виденные мною Куршскую косу и Юрмалу, но и на кадры из невиденного к/ф «Последний день лета», попадавшиеся в книгах по истории кино и польских журналах начала 60-х.
«Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос…»
Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос,
а просто в том, колючий, мягкий мох ли,
а ты ни в сон, ни в чох, и только охни,
когда росток сквозь позвонок пророс.
Так, прирастая к стенкам бытия,
в небытие, в траву, хвощи и стланик
ты прорастаешь, приуставший странник,
и эта пристань предпоследняя твоя
все ярче, все сильнее зеленеет,
покуда небо звездное бледнеет.
«Не в крыле самолета…»
Не в крыле самолета,
зоревых облаках,
ощущенье полета
в деревянных быках,
в неподвижных опорах,
вбитых в глину на треть,
в тех, мимо которых
в речку навзничь лететь.
«Печальное не более, чем прочие…»
Печальное не более, чем прочие,
прощание двоих через порог.
Так эти ночи вас не обморочили?
Прощайтесь. Только прочен ли залог
от обмороков? С досточки порога
какими петлями пойдет дорога
по обе сто?роны воздвигнутой черты?
В каких ухабах слез не сдержишь ты?
И на какой – бетонной ли, проселочной —
в сияньи фар, в тумане, как во сне,
ему, как свет в лицо, ударит голос твой:
«Прощай, прощай, да помни обо мне».
«О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь…»
О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь
(и, утираясь, говоришь, что слезы – ложь)
в бетонной скуке станции Ланская,
в хлопках автоматических дверей,
где небо с пылью склеено… – Какая
тоска и гарь! – Так едем поскорей!
И вот поехали, и вот последний крик,
как стронулся, таща тяжелый след, ледник,
теряя валуны в межреберных канавах,
в мельканьи пригородов, загородов, дач,
в желтоволосых придорожных травах
и в полосах удач и неудач.
Когда что плоть, что дух, как лед, истаяли,
куда ж нам плыть, мой друг? Куда и стоит ли?
На перестуках шпал, на парусах обвислых,
на карликовых лодочках берез
куда ж нам плыть? В каких назначить числах
отход от пристани, не утирая слез…
…в бетонной скуке станции Ланская… ? Ланская – под Ленинградом (ныне Санкт-Петербургом), первая от Финляндского вокзала, еще в черте города, остановка на пути в Комарово.
«В малиннике, в крапивнике, в огне…»
В малиннике, в крапивнике, в огне
желания, как выйдя на закланье,
забыть, что мир кончается Казанью
и грачьим криком в забранном окне.
Беспамятно, бессонно и счастливо,
как на треножник сложенный телок…
Расти, костер. Гори, дуга залива.
Сияй впотьмах, безумный мотылек.
…забыть, что мир кончается Казанью / и грачьим криком в забранном окне. ? За окнами корпусов Казанской психиатрической тюрьмы неумолчно кричали грачи (как в «Давиде Копперфильде» Диккенса, которого я перед тем читала в Бутырке).
«Фонарик мой, качайся в облаках…»
Фонарик мой, качайся в облаках,
роняя тень и свет по взмаху ветра
Послушай, не слушай ничьих, ни моих уговоров, ни плача
и право же —
не слушай, как ветер вцепился в сосёнок колючие клавиши,
не слушай, навеки натянем купальные шапочки на уши,
нырнем под волну и, как щепки, взлетим над волною,
и кто мы, когда начинают стихии творенье иное,
и как добрести среди соли, песка и нежданного зноя
до синей полоски, где сходятся с хлябью земною
небесные тверди, до хлопанья кресел на титре «Конец».
Заглавие стихотворения – термин истории кино, у меня связанный с польским кино. Изображенный в стихотворении неопределенно-прибалтийский пейзаж похож не только на виденные мною Куршскую косу и Юрмалу, но и на кадры из невиденного к/ф «Последний день лета», попадавшиеся в книгах по истории кино и польских журналах начала 60-х.
«Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос…»
Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос,
а просто в том, колючий, мягкий мох ли,
а ты ни в сон, ни в чох, и только охни,
когда росток сквозь позвонок пророс.
Так, прирастая к стенкам бытия,
в небытие, в траву, хвощи и стланик
ты прорастаешь, приуставший странник,
и эта пристань предпоследняя твоя
все ярче, все сильнее зеленеет,
покуда небо звездное бледнеет.
«Не в крыле самолета…»
Не в крыле самолета,
зоревых облаках,
ощущенье полета
в деревянных быках,
в неподвижных опорах,
вбитых в глину на треть,
в тех, мимо которых
в речку навзничь лететь.
«Печальное не более, чем прочие…»
Печальное не более, чем прочие,
прощание двоих через порог.
Так эти ночи вас не обморочили?
Прощайтесь. Только прочен ли залог
от обмороков? С досточки порога
какими петлями пойдет дорога
по обе сто?роны воздвигнутой черты?
В каких ухабах слез не сдержишь ты?
И на какой – бетонной ли, проселочной —
в сияньи фар, в тумане, как во сне,
ему, как свет в лицо, ударит голос твой:
«Прощай, прощай, да помни обо мне».
«О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь…»
О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь
(и, утираясь, говоришь, что слезы – ложь)
в бетонной скуке станции Ланская,
в хлопках автоматических дверей,
где небо с пылью склеено… – Какая
тоска и гарь! – Так едем поскорей!
И вот поехали, и вот последний крик,
как стронулся, таща тяжелый след, ледник,
теряя валуны в межреберных канавах,
в мельканьи пригородов, загородов, дач,
в желтоволосых придорожных травах
и в полосах удач и неудач.
Когда что плоть, что дух, как лед, истаяли,
куда ж нам плыть, мой друг? Куда и стоит ли?
На перестуках шпал, на парусах обвислых,
на карликовых лодочках берез
куда ж нам плыть? В каких назначить числах
отход от пристани, не утирая слез…
…в бетонной скуке станции Ланская… ? Ланская – под Ленинградом (ныне Санкт-Петербургом), первая от Финляндского вокзала, еще в черте города, остановка на пути в Комарово.
«В малиннике, в крапивнике, в огне…»
В малиннике, в крапивнике, в огне
желания, как выйдя на закланье,
забыть, что мир кончается Казанью
и грачьим криком в забранном окне.
Беспамятно, бессонно и счастливо,
как на треножник сложенный телок…
Расти, костер. Гори, дуга залива.
Сияй впотьмах, безумный мотылек.
…забыть, что мир кончается Казанью / и грачьим криком в забранном окне. ? За окнами корпусов Казанской психиатрической тюрьмы неумолчно кричали грачи (как в «Давиде Копперфильде» Диккенса, которого я перед тем читала в Бутырке).
«Фонарик мой, качайся в облаках…»
Фонарик мой, качайся в облаках,
роняя тень и свет по взмаху ветра