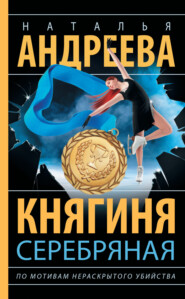По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Утро ночи любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вечером Эдик пришел к нему, как и обещал. В кармане бутылка водки, под мышкой зажат батон полукопченой колбасы.
– Ну, это и у меня есть, – усмехнулся он.
– Колбаса?
– Водка! Ты так и шел по улице? – поинтересовался он, выдергивая у Эдика из-под мышки колбасу.
– А что?
– Блин! Мотало, ты никогда не женишься!
– А я и не хочу… – Эдик потянул носом: – Андрон, чем пахнет?
– Е! Котлеты!
Он побежал на кухню, перевернул жарившиеся на сковороде котлеты. Запахло гарью.
– Чего-то я этот процесс никак не осилю, – пожаловался он Эдику. – Все время подгорают.
– Мать приезжала? – кивнул тот на котлеты.
– Ага. Ты садись.
Эдик присел на шаткий табурет, сложил руки на коленях, как школьник. Спросил:
– Как она?
– Нормально. Вся в делах.
– Урожая в этом году, похоже, не будет, – вздохнул Мотало, глядя в окно. – Дожди все залили.
– А тебе не параллельно? У тебя-то дачи нет.
– Да так. Все говорят.
– Это точно. Только об этом и слышу. Мать приедет, сядет на диван и понеслась! Тра-та-та-та-та! Как из пулемета! Картошка гниет, огурцы мокнут, помидоры тля жрет… Слышь? Она там зимовать собирается! В дачном поселке!
– Что, совсем плохо?
– У нас с ней? Да как обычно.... Ну, вроде все. Добил я эти котлеты. И с другой стороны подгорели, блин!
– Ничего. Я съем.
Андрей поставил сковородку на стол и полез в холодильник за солеными огурцами.
– А записку-то, похоже, Курехин писал, – вздохнул ему в спину Эдик.
– И что?
– И знаешь, писал ее в спокойной обстановке. Старательно выводя каждую букву. То есть, давления на него оказано не было, и он, похоже, ничего не боялся. Сидел и писал, как прилежный ученик. О том, что добровольно уходит из жизни.
– Скажи еще: диктант писал, – усмехнулся Котяев, с трудом выколупывая из банки огромный огурец. – Все время удивлялся: и как это мать умудряется запихивать их в банку? И почему не собирает урожай, когда они нормального размера? Нет, дождется пока станут как кабачки, и тогда уже начинает рассовывать по банкам! Сколько ни просил ее этого не делать, бесполезно!
– Диктант? – задумчиво переспросил Эдик. – Может, и так.
– И кто ж учитель?
– Ты меня спрашиваешь?
– Чего сидишь? Разливай!
– В войну родилась, – сказал Мотало, задумчиво глядя, как он режет огромный огурец.
– Кто?
– Антонина Петровна. Мама твоя.
– Это из чего следует? Из соленого огурца?
– Вот ты надо мной смеешься, а напрасно.
– Я не смеюсь… Она родилась в пятидесятых, если на то пошло… Давай-ка мы с тобой, Эдик, выпьем за лето! За хорошую погоду!
– Так она ж дрянь!
– Ну не вечно же это будет продолжаться? Давай. За солнышко.
Выпили по первой. Он потянулся к сковороде, вилкой развалил пополам горелую котлету. Нехотя стал жевать.
– Скучно, – зевнул Мотало.
– А ты наливай!
– …Вот ты говоришь, у меня крыша поехала.
Лицо у Эдика стало красное, жиденькие, мокрые от пота пряди волос прилипли ко лбу с огромными залысинами, очки сползли на самый кончик длинного носа. Они только что прикончили первую бутылку водки и, как обычно, начали спорить до хрипоты.
– Точно! Поехала! Причем давно!
– Ты просто тупой, ограниченный человек, Кот. Такой же, как все.
– Ну, спасибо! Я твой единственный друг! – он стукнул кулаком в грудь. – И ты мне… мне!
– Не-ет… Ты мне не друг… Ты меня ис… – Эдик икнул, – используешь.
– Тю-ю! Совсем спятил! Что с тебя можно поиметь, Мотало ты хреново?
– Тебе выпить не с кем. И поговорить тебе не с кем. У тебя, Кот, друзей нет. Потому что ты – Кот. Гуляешь сам по себе.