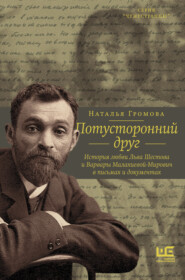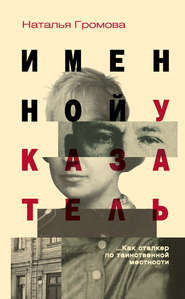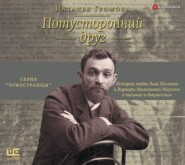По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ольга Берггольц. Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не чувствовала ли грядущие несчастья матери двена-дцатилетняя Ольга, когда за год до этого выводила в школьной тетради красивым детским почерком:
Почему ты одна, почему ты грустна
И несчастна средь шумных друзей?
Потому что твоя возвышенней душа,
И стремленья верней и честней.
Мария Тимофеевна будет беречь каждый листок со стихами, написанными рукой ее Ляли. Спустя годы Ольга скажет: «…мать восторженно поддерживала во мне желание быть поэтессой. Она сама имела ниже чем среднее образование, но много читала, ее идеалом были “тургеневские” девушки, она мечтала вращаться среди артистов и писателей. Каждый мой стишок она ужасно расхваливала».
Но восторженная детская любовь к матери у Ольги с возрастом охладеет. Главное место в сердце займет отец – жизнелюбивый и грешный, с чувством юмора, вспыльчивый, ревнивый, обожающий женщин, вино, искусство. Разгульный нрав вполне совмещался в нем с самоотверженной преданностью своему делу; в любое время дня и ночи он бежал помогать своим пациентам.
В тринадцать с небольшим лет Ольга в своих дневниках с грустью оборачивается на ушедшее детство, когда, казалось, впереди – вся жизнь. Ей открывается вся мимолетность времени. Из этой светлой подростковой печали спустя десятилетия вырастут лучшие страницы «Дневных звезд». Она пишет в дневнике о том, как на чердаке дома очутилась вместе с забытым игрушечным медведем – любимой игрушкой младенческих лет.
«Воскресенье, 10-го февраля 1924. Сегодня, когда я пошла на чердак перед собранием, снимать передники и платья, в самом углу, у окна, я увидала всего покрытого пылью, без головы – моего друга детства, большого папочного медведя, на колесах и с палкой. Если нагнуть голову медведю, то он громко начинал рычать. Я нагнула ему остаток головы, и он громко, точно жалобно зарычал, я нагнула еще и еще, жадно вслушиваясь в его рев. Воспоминания волной обрушились на меня. Я вспомнила себя совсем-совсем маленькой, в красном бумазейном платьице, с короткими рукавчиками. Я катаю этого самого медведя, совсем нового, по темному коридору, нагибаю ему голову, он рычит, и мне так весело, так приятно. Я гляжу в окошко, все покрыто паутиной, и удивляюсь, почему в солнечном луче так много разноцветных пылинок, и что это такое. Я стараюсь поймать эти пылинки, подставляю под луч Мишку, всовываю в луч руку и гляжу, как ее тень (руки) отражается на полу. Я ловлю этот разноцветный луч в подол, огорчаюсь, что его там нет; вбегаю в луч, машу и прыгаю там, а потом отбегу и смотрю, как весело заплясали там пылинки. Идет тетя Лиза, я везу на нее Мишку, и рычу вместе с ним: “у… у…” Она делает вид, что испугалась, и я, довольная, снова бегу играть с золотым лучом. Счастливое, счастливое, невозвратное время. Где ты? Куда улетело? Неужели умчалось вместе с тем золотым лучом, исчезло навсегда? Неужели не пляшут в тебе веселые, блестящие пылинки?.. Стараясь не запачкать белье, я нежно поцеловала старого, пыльного, дорогого мишку».
Один за другим звучат звонки, предупреждая девочку, что детство неизбежно уходит.
Сначала смерть бабушки.
20 декабря 1924 года умерла Ольга Михайловна. Мария Тимофеевна записала: «…умерла мать Федина. Смерть ее была для нас неожиданна. Смерть ее всколыхнула мою душу и подняла волну укора совести, и до сих пор переливается эта волна в душе моей. С ее смертью неизбежная перемена в нашей семье…»
Девочка впервые столкнулась с уходом из жизни близкого человека: «20 декабря, 1924 г. 6 ч. ?. Да, умерла и не проснется никогда. Никогда. Ни-ког-да… Страшно. Холодно. Милая, родная, далекая, прости меня… За все прегрешения вольные и невольные… не могу… Ох, не верится. Дико… Сейчас там читает монашка гнетно… Папа пришел сейчас… Потрясен. Ведь за пять минут до смерти говорила».
Вслед за бабушкой ушел дед, окончательно подводя черту под прошлым, под детством, – Ольга это понимает:
«23 сентября 1925. …Я плачу, но редко и скупо. Ах, я хотела б плакать до обморока. Ушло мое детство. Он меня очень любил, дедушка-то… Нет, зачем я так пишу. Так пишу, как сочиняю… Какая я гнусная. Дедушка, дедушка… Теперь всё, всё должно пойти по-новому. И я, я буду мертва?! Нет!..
<…> Сегодня год бабушке… Была в церкви. Чем-то затхлым, далеким и тяжелым пахнуло на меня. А на кладбище снег девственно бел и весь искрился под радостными, ярко-желтыми лучами солнца. Такой белый снег, и такие милые, робкие желтые лучи!.. Было тяжело, когда над могилой гундосил поп, – “для чего?”, думалось… Вспоминается, как год тому назад было больно и страшно. А теперь… нет!.. Было тяжело именно оттого, что не нужно все это: служба, крест, слезы…»
«Милый Ленин…»
«Не нужно всё это: служба, крест, слезы…»
А что нужно? Что приходит на смену?
Ольгу, как и все ее поколение, родившееся в начале двадцатого века, захлестнул поток истории. Она все больше и больше проникалась духом перемен.
7 ноября 1923 года вместе с одноклассниками она идет на демонстрацию. От школы, украшенной флагами, мимо фабрик и заводов, расцвеченных кумачом, – у каждого на груди красный бант, – с пением «Интернационала» колоннами двинулись «в город». К ним присоединяются новые и новые потоки демонстрантов. С Невской заставы шествие доходит до Аничкова моста. «Пришли на площадь Урицкого, бывшую Дворцовую, и тут-то и начался самый интересный момент нашей демонстрации, – пишет Ольга. – Мимо проезжали автомобили – грузовики, с установленными на них колоссальными игрушками. Была, например, такая игрушка: был сделан громадный рабочий, который молотом бил по осиновому колу, вбитому в гроб. Проходили мимо карикатурно-смешные Юденич, Колчак и другие вожди белых, с которыми воевала Советская Республика; в автомобиле разные петрушки, клоуны, одетые в буржуев; были устроены коммунисты, грозившие кулаками буржуям. Вообще, это времяпровождение на площади Урицкого имело больше успеха, чем в “Вене”. До этой демонстрации говорили, что будет показан радио-монограф, который слышно на 15 верст кругом, но его не показывали. Через некоторое время, под звуки опять того же “Интернационала”, школьники двинулись обратно, переговариваясь между собой о виденных новинках. Многие были довольны, но некоторые жалели испорченных сапог, и все хотели есть…
Где-то вдалеке грохотали пушки, приветствуя шестую годовщину Революции».
Старшие в ее семье относились к новой власти презрительно-брезгливо. Ольга не находила сочувствия своим устремлениям ни у отца, занятого работой и любовными похождениями, ни у страдающей от одиночества матери, ни у маленькой еще Муси.
…В начале 1924 года умер Ленин.
В школе, где училась Ольга, смерть Ленина была воспринята совсем не так, как об этом писали потом в воспоминаниях: «22 Января. Вторник. Сейчас пришла Ел. Павл. и объявила: “Тов. Ленин приказал долго жить”, и все обрадовались, – с горечью констатирует Ольга. – Но я не обрадовалась: мне жаль Ленина. Почему? Не знаю. Но, мне страшно признаться, мне казалось, что я схожусь с ним во взглядах. Ой! Спи с миром, Вл. Ильич! Ты умер на своем посту».
Реакция в семье такая же, как и в школе: «Как захохочут папа и мама, когда узнают или прочтут это. Ну, пусть. Назовут “комсомолкой”. Ха-ха-ха!»
Советская власть еще не располагала теми возможностями, которые появятся у нее позже. Еще не было в каждой школе пионерских и комсомольских ячеек – сюда только время от времени приходили члены райкома. Еще не вбивалась населению по радио единственно правильная партийная точка зрения. Начинался НЭП. Многим казалось, что 1917 год с Лениным и революцией, с демонстрациями и красными знаменами на улицах уйдет сам собой, вправится, как вывих истории, и все будет пусть по-другому, но по сути – как прежде. Ведь одна за другой открывались лавочки, ходили по улицам зеленщики и молочницы, ездили все так же извозчики, издавались в крохотных издательствах книги. Ленин в глазах обывателя был уже пережитком жестокой эпохи, что ушла вместе с революцией и Гражданской войной. Да и жалели о нем в основном рабочие, как писали в отчетах ОГПУ.
А Ольга – натура романтическая – пишет стихотворение на смерть Ленина. Убежала на кухню и на одном дыхании написала горячие строки. На другой день она уже читала их в школе, на траурном утреннике.
Как у нас гудки сегодня пели!
Точно все заводы встали на колени.
Ведь они теперь осиротели.
Умер Ленин…
Милый Ленин…
Все девочки плакали, не без гордости замечает она, плакали именно от чтения ее стихов. А какой-то человек из райкома партии сказал ей, что такие стихи мог написать только настоящий комсомолец.
Ольга показала стихотворение отцу, и тот отнес его в стенгазету фабрики «Красный ткач» (бывшая фабрика Торнтона), где работал врачом в амбулатории. В день, когда стихи опубликовали, Ольга бежала на фабрику с бьющимся сердцем. Это была ее первая публикация!
На стене фабкома висела стенная газета с ее стихотворением. Оно было напечатано в самом центре, над ним – склоненные траурные знамена и подпись: «Ольга Берггольц». Рядом опубликованы воспоминания людей, которые лично знали Ленина, когда он молодым пропагандистом вел занятия в рабочих кружках. И Федор Христофорович, хотя и не симпатизировал идеям Ленина, гордился, что дочь пишет стихи, которые всем нравятся, а уж на какую тему, это ему было не так важно. Человек он был легкий и к жизни относился просто.
Однако для четырнадцатилетней Ольги Берггольц смерть Ленина стала началом новой веры, теперь уже коммунистической. Отныне Ленин полностью вытеснил из сознания девушки прежнюю христианскую веру. Революция превратится для нее в мечту и страсть. Она видит себя то на баррикадах Великой французской революции, то тоскует, что не попала на Гражданскую войну, то представляет себя рядом с настоящими героями.
В день Парижской коммуны Ольга записала в дневнике: «Так и хочется на баррикады! Хочется алых знамен, грохота пушек, криков победы – “vive la commune”. И обидно, горько – обидно, что не была, не помню, что была на баррикадах. А может быть, и была. Да, была, была! Я верю в переселение душ – т. е. верю и не верю. Но из-за этого – гнуснейшее настроение».
Чувство, что героические времена прошли мимо, не покидало ее. Но и новый мир обещал грандиозное будущее. Новая эстетика ложилась на экзальтированное, с элементами жертвенности юное сознание. Каждый митинг заканчивался пением «Интернационала», «Вы жертвою пали…» или забытого ныне, но тогда очень популярного «Реквиема» Л. Пальмина.
Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках,
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах!
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучший почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед!
Тема героической гибели во имя народа и страны скоро станет одной из ведущих в советской пропаганде – и в школах, и на радио, и в газетах. Власть воздействовала не на разум – на чувства народа, на коллективное сознание. Чистая поэтическая натура Ольги с восторгом отозвалась на высокие слова и патетику строителей нового мира.
Конец детства. «Смена»
…Девочка за Невскою заставой,
та, что пела, счастия ждала…
Ольга Берггольц
Прежний дом постепенно рассыпался. Со смертью бабушки и дедушки зашатались устои берггольцевской семьи. Ольге хотелось бежать из домашней рутины в жизнь, наполненную высоким смыслом.
Ее стихи и очерки стали появляться в газете Ленинградского губкома РКСМ, которая выпускалась для детей и подростков. Когда в 1926 году на Невской заставе началась перестройка Палевского проспекта, юнкор Ольга Берггольц опубликовала в газете «Ленинские искры» радостный очерк о строительстве новых домов для рабочих возле ее родного дома: «Палевский проспект. Маленькие такие домишечки, деревянные, почти у каждого дома – садик как в деревне. И теперь рядом с ними новые дома – солидные, каменные. А ведь было время, когда Палевского проспекта совсем не было: было большое болото, поперек проходил железнодорожный вал. Это было лет тридцать тому назад. Теперешние отцы семейств на месте теперешних жилищ ловили карасей… По праздникам в этих местах происходили кулачные бои. Население было некультурное; не было ни клубов, ни домпросветов, ничего того, что теперь имеет Невская застава. И вот единственным развлечением темных рабочих и обывателей Невской заставы были жестокие кулачные бои, во время которых было немало жертв. Выходила “Смолянка” на “Александровцев”… Дрались долго и жестоко. Пока одна сторона не побеждала другую…»
Любимый Ольгин дедушка Христофор Бергхольц – бывший управляющий фабрики Паля. Родительский дом стоит на землях эксплуататора. Отдает ли девочка, пишущая бодрый очерк о новом быте, себе в этом отчет? Конечно. Но для того, чтобы шагнуть в новое время, ей надо отречься от собственного прошлого. Домики, скверики, палисадники, беседки Невской заставы кажутся теперь Ольге старообразными и уродливыми.
Палевский жилмассив (построенный в 1925–1926 годы) был одним из первых опытов советского градостроительства. Но трехэтажные аккуратные домики с отдельными входами в квартиры совсем не походили на будущие дома-коммуны с обобществленным бытом, которые будут построены несколько лет спустя. Может быть, сказывалось, что строительство шло в эпоху НЭПа. Тогда же был выстроен Дом культуры текстильщиков, открывшийся к десятилетию октября к 1927 году, – один из лучших образцов ленинградского конструктивизма.
В это же время шестнадцатилетняя Ольга узнает, что в центре Ленинграда действует литобъединение для рабочей молодежи «Смена», где собираются молодые поэты и писатели. Она пришла туда «с безумной робостью» в самом начале 1925 года. Пришла втайне от родителей. Занятия проходили не реже двух-трех раз в неделю. Лит-объединение располагалось под самой крышей дома – первого по Невскому проспекту, прямо напротив Адмиралтейства; до революции в этом здании была гостиница «Лондон». Потом занятия стали проходить в Домпросвете на Мойке, в знаменитом Юсуповском дворце. Совсем недавно здесь в одной из комнат был убит Григорий Распутин. Прошло каких-то десять лет, но для молодых людей, живущих в новом мире, это была вечность. Их новый мир только начинался.