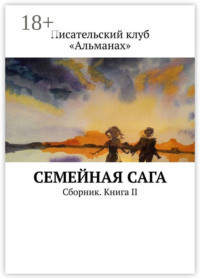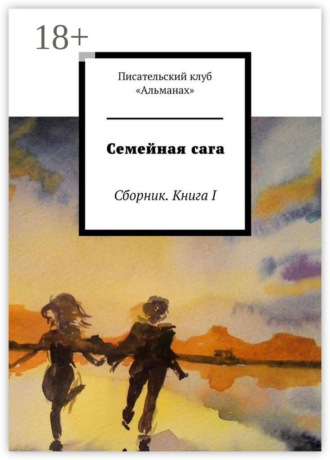
Семейная сага. Сборник. Книга I
Дед зовет, – сказала мне бабушка по телефону, – приходи быстрее.
– Попрощаться? – крутится предательская мысль. В горле ком, глаза сухие. Надо держать себя в руках, не реветь.
Предательски сокращается желудок. Токсикоз дает «прикурить».
Шаг, ещё шаг. Знакомая дверь не запрета, заходим. Запах лекарств и осязаемой грусти встречают в коридоре.
Странно устроен человек, вроде всё осознаешь, но верить в очевидное отказываешься.
– Дед, привет! Ты чего удумал болеть? – сглатываю накатившую волну слёз.
Дед лежит. Высохший, впервые на моей памяти с щетиной. Улыбается.
– Да, так получилось, Нинуха. Врачи говорят анализы у тебя, Дмитрий Герасимович, интересные. Ещё и бабка ругается… я позавчера на дачу ушёл, принял две капсулы, конечно, – тихо смеётся. От лекарств всё равно толку никакого.
Сдерживаю слезы, плакать нельзя. Дед расстроится.
– Ничего, не расстраивайся. Живите дружно, уважайте друг друга, – говорит дед.
Молчим. Слова бессмысленны.
Время в комнате застыло, как в стоп-кадре. Навязчивое тиканье часов отсчитывает секунды. Неотвратимость. Глухая, беспросветная. И ничем не помочь, и никак не остановить. Бабушка кивает нам, – идите домой.
Голос деда останавливает: «Жаль внука не увижу». – Да, дед, жаль, – соглашаюсь с ним молча.
Выхожу из комнаты, задыхаюсь. Ощущение, что ещё чуть-чуть и ты разлечусь от горя на мелкие кусочки и никогда себя не соберу. Ноги с головой начинают жить собственной жизнью.
Через полчаса деда не стало. Он ушел первый из старшего поколения. Хранитель традиций, собеседник, каких мало.
В тот день пришло понимание, что никто не вечен и любить нужно живых.
Дед, спасибо тебе за всё. За любознательность, за мудрость, за бесшабашность, за Победу.
Соберу кусочки памяти, сохраню их бережно для себя, для детей и внуков.
Расскажу как бегал ты, дед, босоногим мальцом, а в шестнадцать лет ушел на фронт. Не забуду про бабулю и про остальных тоже обязательно вспомню.
Глава 1 Дед
Я лежу на ковре с книгой. Что может быть лучше? Другие миры, приключения, погони, схватки. Пространство изменяет свои границы, запросто можно путешествовать во времени.
На стене висят портреты: бородатый прадед и прабабка. Болтаю ногами и проглатываю страницу за страницей.
– Ба, а кто это? – спрашиваю беспечно. – Это твой прадед Мальцев Герасим Степанович и прабабушка Алёна, – терпеливо объясняет бабушка в десятый раз. Родители твоего деда.
Ноябрь 1926 год. Алтайский край село Гуниха.
Низкое, свинцовое небо давит на крыши изб. Морозный воздух пахнет снегом. Зябко.
В избе пасечника хозяин, две соседки и притихшие ребятишки за шторкой на полатях. Хозяин дома Герасим степенно оглаживает свою окладистую бороду. Волнуется, но вида не подает. Время кружит своими потаенными тропами, растягивая мгновения в вечность. Наконец, распахивается дверь и тетка Анисья выдыхает: «Гарасим, сын!».
Прадед довольно крякает, повторяет: «Сын! Последыш!». И, правда, дед родился шестым, последним ребёнком.
Маленький, щуплый, беспокойный. Задира и забияка, он с детства отстаивал свое я. И называли его не Митька, а Дмитрий Герасимович.
Едва деду минуло пять лет, кончилось детство. Родители ушли один, за другим, и дед остался сиротой. Сироту приютила тетка Татьяна. Старшие дети выросли и уехали, а младших разобрала родня. Время было непростое, голодное, смутное, страшное. Хлебозаготовки, бившие тяжёлым кнутом судьбы по хозяйствам. Коллективизация. Раскулачивание.
Дед вспоминал: «Эх, помню бегал пацаненком, были мы вечно голодные. Грибы, ягоды спасали..зимой приходилось совсем туго». Щедрая природа Алтайского края кормила своих обездоленных детей.
– Деда, а расскажи, про своё детство? – как-то спросила я.
– Какое там детство, – отмахнулся дед, – все работали. Отучиться я успел всего два класса. – Вам теперь хорошо, учись – не хочу!
Дед всегда был охотч до знаний. Живой, пытливый ум не давал рукам покоя.
– Дед, а дальше? – Дальше пришла война. Всех годных мужиков демобилизовали, в деревне остались бабы, да ребятишки. А в 16 лет я сбежал, приписал себе два года и пошёл на фронт. Да, кто там тогда смотрел или проверял. Две руки, две ноги, иди.
– Попал я на Тихоокеанский флот, юнгой. – Дед, воевать приходилось? Какая она война? Подвиги совершал? – мучила я вопросами деда.
– Война страшная, – отвечал он. – Грязь, кровь, – вздыхал и закуривал, задумчиво глядя в потолок. – Воевать приходилось, – нехотя говорил он. Когда фрицев разбили, япошкам хвоста накрутили. Подвигов? – Нет, не совершал, не успел, – скромничал дед.
И каждый год 9 мая в любую погоду шел на парад в парадном пиджаке, увешанном наградами.
Вот и всё, что мне удалось узнать у деда. Говорил он о войне неохотно. Повторял одно: «Не дай Бог, вам это испытать! Живите мирно!
До 1947 года дед продолжал служить на Тихоокеанском флоте, демобилизовался и подался на поиски родственников. Сначала нашёл сестру Грушу, а потом обосновался в Прокопьевске. Там, в госпитале познакомился с красавицей Клавой. Строгая и неприступная, статная медсестричка стала моей бабушкой.
Глава 2 Бабушка
– Ба, а у нас в роду дворяне были? – уплетая ажурный блин, допрашиваю бабулю.
– Какие дворяне? – смеётся бабушка, – крепкие хозяева были. Всего достигли своим трудом и своими руками. Прадед «кулаком» был. – Как кулаком? – мои глаза расширяются от ужаса. Они же эксплуататоры!
Бабушка внимательно смотрит на меня, – нет! Пахали от зари до зари – да. Детей пытались вырастить, прокормить. Свои же и раскулачили, за то, что работали на совесть и хозяйство тянули, – тяжело вздыхает.
Потом надолго замолкает. Молчу и я. В голове каша. Воспитание в лучших традициях советских школ и бабушкин рассказ кружат в мысленном поединке.
Выгнали из дома в один день, в чём были, в том и в дорогу отправились, – продолжила бабушка и снова замолчала, погружаясь в прошлое.
Выехало их на место ссылки тринадцать человек, родителей и детей. 1775 километров из села Барское (Октябрьское) до Прокопьевска, без еды, без одежды, без надежды на будущее. Из одиннадцати детей у прадеда Александра Дмитриевича и прабабки Екатерины Яковлевны, осталось трое, в их числе моя бабушка.
Селили врагов народа в сколоченные наспех дощатые бараки, продаваемые всеми ветрами. Часто с земляными полами. Эпидемии в бараке бушевали жуткие. Сосланная семья не имела права никуда переселяться с места выселки. Так и жили в барака, ожидая решения своей участи.
Трудности, трудностями, а баба Клава успешно выучилась в медицинском техникуме и начала работать в госпитале.
– Ба, а ты с поля боя вытаскивала раненных? – спрашиваю в канун 9 Мая. – Что ты, внуча, раненых хватало, везли с фронта эшелонами, мы с ног сбивались.
За молоденькой и красивой медсестричкой ухаживали многие. В госпитале она познакомилась с первым мужем Фёдором, родила сына Николая.
Как часто бывало в те времена, муж оказался женат. Моя принципиальная бабуля узнав об этом, бросила его, не раздумывая.
Вскоре жизнь свела их пути с дедом. Долго не выпускала она его в свою жизнь. Так ведь и деду не занимать настойчивости. В конце концов, бабушка сдалась бравому моряку, они стали жить вместе, поженились.
До 1953 года деды были из-за бабушки невыездные, а после смерти Сталина и амнистии собрали свои нехитрые пожитки и отправились в село Октябрьское, откуда были, казалось, навсегда изгнаны.
Глава 3 Октябрьское
В 1953 году домой в Октябрьское приехал целый табор. Прабабка Катя, прадед Александр, дед, бабуля, сыновья Коля и Шурик, первенец деда и бабы. Дом на малой родине манил. Все горести и обиды были забыты, осталось одно на всех желание – вернуться.
Время выдалось хлопотное. Помимо переезда, ждали появления на свет моей мамы.
В селе жили многочисленные родственники с бабушкиной стороны. Вернувшееся семейство встретили и на первое время приютили. Дед не стал тянуть и построил небольшой, по силам дом. Посадили яблоневый сад и зажили спокойно, без оглядки на прошлое.
Село было дружное. Всем миром построили школу, в постройке участвовали даже дети. Клуб тоже возводили сообща, новогодние ёлки, выступления местных артистов проводили в нем. Праздники, сабантуи справляли весело с гармонью, песнями, плясками.
Праздновали не только советские праздники. Вот – Пасха. Едет на мотоцикле председатель совхоза, кричит бабушке: «Христос Воскресе, Клавдия!». Та отвечает: «Воистину воскрес!». Председатель с досадой: «Воскрес-то воскрес, а целоваться не даешься!». В Святки ходили по дворам колядовали, ну и само собой, не забывали день красный день календаря – 7 ноября. Скучать не приходилось.
Бабушка продолжила работать по медицинской части в больнице, дед электриком. Потихоньку быт стал налаживаться и они начали ездить на курорты, поправлять надорванное за тяжёлые военные и послевоенные годы.
Поразительны и трогательны чувства, которыми полны их письма друг к другу во время этих кратких разлук. Бабушка пишет: «От тебя получили посылку, пять открыток и два письма, за что сердечно тебе благодарны. Митя, родной, ты не представляешь как я рада твоему такому полезному и увлекательному отдыху… Я читала твои письма и открытки плакала от радости, что ты так хорошо отдыхаешь.
В 1960 году деду пришлось перенести тяжелейшую операцию. В ответ на письменную бабушкину поддержку, дед пишет: «Пишешь, чтоб я не падал духом, да разве я когда падаю духом?… Хватит об этом, ерунда. Один раз умирать».
В этих строчках весь их характер, сила духа и чистота души.
И все бы было хорошо, если бы в 1961 году не пришла беда, которую не ждали. В свои 10 лет погиб сын Шурик, утонул. Семью ждали испытания и перемены.
Глава 4 Потери
– Клава, Клавдия Александровна, беда! – Шурик твой.. утонул, – упала каменной глыбой на сердце бабушки страшная весть. Десять лет было моему дядьке, когда его не стало.
Горе подкосило семью. Особенно ранило бабушку. Иногда, в памятные дни она мне говорила: «Не дай Бог матери пережить дитя». Маме тоже досталось. С братом они были очень дружны. Везде вместе, все проказы и все детские заботы делили пополам.
Горевал и дед, но по-своему, он решил уехать из села. Бабуля осталась «на хозяйстве», дед устраивался на новом месте. Сначала попытал счастья в Крыму, потом поехал дальше по Союзу. Остановился на Уштобе, городке в Алматинской области.
Переписку того 1961 года без душевного трепета читать невозможно.
Невероятной души и терпения бабушка писала: «Почему ты пошёл на работу, не дождался перекомиссии. Нужно было отдохнуть, я этого не одобряю. Но вообще-то поздравляю с выходом на работу и желаю успехов в работе». «Береги себя, там говорят у тебя очень плохие условия труда, плохое помещение.
Само собой, не обошлось в этой истории без «добрых людей». По селу пошли слухи и сплетни, которые бабушка с мамой тяжело переживали.
Надо сказать, что моя справедливая и честная бабуля могла постоять за себя, и делала это с большим достоинством: «Я ему сказала мне пятый десяток и обо мне не хворайте, я как-нибудь сама о себе поболею без сочувствующих. Пока руки-ноги, а также голова на плечах».
Так всю жизнь и жила, надеясь только на свои силы, без единой просьбы о помощи.
Проходили дни без деда в бесконечных хлопотах: подмазать дом, выкопать картошку, сделать заготовки, задать корма скотине, да мало ли этих дел в деревне. Мои безропотные хозяюшки не жаловались, тянули свою лямку без лишних слов. Иногда приезжал старший бабушкин сын Николай, помогал, чем мог.
Долго ли коротко, семья воссоединилась. Нашли подходящий домишко в Уштобе, и начали в который раз обживаться.
Мама ждала душистые персики из сада, мечтая есть их тазиками, а бабушке становилось все хуже и хуже. «Не климат», – развели руками врачи. Сердечко, надорванное горем, стало сдавать. Пришлось домочадцам опять собирать вещи и искать новое место жительства.
Глава 5. Мама
– Я училась на круглые пятёрки, и была разбойницей, – торжественно заявляет мама и глаза её блестят от удовольствия.
Как я понимаю, вспоминаются совсем не «пятёрки», а проказы. Да разве ж выпытаешь? Только рассказы кусочками и под хорошее настроение.
Ловлю момент. Спрашиваю, – мам, расскажи!
Расправляет морщинки и улыбается, – бывало растянем верёвку на улице, темно, ничего не видно, кто-нибудь идёт, мы верёвочку… раз и натягиваем. Хохочем, – задумывается и хихикает.
– Ай-ай, – качаю головой, а мама улыбается как девчонка и снова вспоминает.
– Как-то мама (бабушка) привезла мне из Москвы две маски: негритенка и клубнички. А у деда по случаю оказались красные штакетины. – Пап, сколоти мне крест, – говорю. – Надо, так надо, на тебе дочь крест.
Дочь надевает на себя слой марли, маску негритенка и берет в рученьки красный крест. И весь этот анти-куклусклан тащится в гости к интернатским детям. Радовать.
Темно, марля развевается лёгким летним ветерком, лица нет, только жуткая маска. Тук-тук, в окошко красным крестом и ручками эдак изящный взмах. Училка в обморок, дети под кровати попрятались. Писк, визг. Ничего не скажешь, пораааадовали.
Поток воспоминаний не иссякает, – а какие дивные битвы мы устраивали портфелями, и ещё с горки на них катались. – Эх, мама, мама, молчи, грусть, – думаю я.
Но, не проказами едиными. Мама была бы не мама, если бы не вела активную концертную жизнь. – А мне чего, – рассказывает она, – пойду к председателю, попрошу машину и едем в соседние села с программой. – Чего давали? – смеюсь я, – неужто Шекспира?
– Да всё! Стихи читали, песни пели, спектакли ставили, я даже кукол делала для кукольного театра. С тем и ездили.
Телевизора и интернета не было. Развлекались, как могли, и ведь здорово было, весело.
– Мам, ещё?! – интересно, вдруг ещё чего вспомнит. Точно, вспомнила, – баба Клава была рукодельница редкая, чего только своими руками не делала. И шила, и вязала, и вышивала. Я тоже стала шить. Да как!
Оказывается, ручками работать и творить красоту – это семейное.
Бабушка часто вспоминала, что мама в юности была отчаянной спорщицей. – Спроси мать, как она лысая ходила, – кивала она на маму.
Интересуюсь, – ходила? Жмурится, – было! Поспорила, что подстригусь налысо. – И что? Подстриглась! Кудри каштановые обрезала, потом в косынке пришлось в школу ходить.
К замужеству волосы отросли, а количество проказ убавилось. К моему рождению мама была совершенно взрослая и серьёзная дама.
Глава 6 Чемодан
Детство моё было насыщенным и весёлым. Нашли меня не в капусте, а в чемодане. Мама сделала финт ушами. Родила, через одиннадцать дней защитила диплом, ещё через четыре дня, родители переехали в казахстанский Степногорск с чемоданом, вместо люльки. Там и нашел меня дед, когда пришёл домой с работы.
В то время родительницы не сидели дома в декрете, выходили на работу через шесть месяцев после родов. Детей пристраивали в ясли или оставляли с няней. Мама – молодой, дипломированный специалист тоже начала трудовую деятельность, деваться было некуда.
От детских лет остались воспоминания, бережно записанные бабушкой в блокнот. Судя по всему, я только и делала, что болела. Домашние доктора лечили, не жалея сил. Мазали горло керосином, ставили горчичники и банки и делали компрессы на спирту.
В 1980 – год Олимпиады в Москве родилась моя сестра и стало ещё веселее. Теперь можно было болеть вдвоём, вместе, или по-очереди.
Довольно часто я оставалась у дедов и бесконечно просила деда, почитай! Из первых книжек помню «Волк и семеро козлят» в таджикском варианте. Герои там были Алюль, Булюль и Хиштаки-Саританур. С тех пор, дед меня звал Алюль-Булюль.
Утомительно читать вслух бесконечно. Но, дед терпеливо читал, а бабушка на ночь рассказывала сказки. В шесть лет я сама научилась складывать буквы в слова и начала свой книжный путь с «Белый Бим-Черное Ухо». – Баба, я книжку прочитала, всю! – Не может быть! – Может! – Она толстая! – Тогда слушай, я тебе перескажу.
И надо сказать, это стало привычным занятием. – Здравствуйте, примите книги, шесть штук! – Девочка, ты их вчера брала! Я их прочитала. – Не может быть.. Может, если любопытство сильнее тебя.
Кроме чтения, занятий было много. У бабушки был роскошный буфет с сокровищами.
Там хранилась большая коробка с пуговицами, из которых можно было создать Вселенную. Путеводители по Москве, открытки с репродукциями знаменитых картин. Потрясающие альбомы, со старыми фотографиями в бархатных обложках. Железные сантехнические шурушки, которые можно было скручивать в разные фигуры.
Это был портал в другой мир. Можно было побродить по Третьяковке, посетить Крым, стоило только подключить воображение.
А летом было раздолье. Дача, грибы-ягоды. Широкая степь в ковыле. Полевые цветы. Рыбалка с дедом и обязательный номер программы – песни.
Как только машина выезжала за городскую черту, запевали дедовскую любимую: «Малиновки заслышав голосок, припомню я забытые желанья..».
Глава 7 Папа
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия (цитата из кинофильма «ДМБ»).
В этом весь смысл и вся стратегия нашей семьи. Главный по смене ландшафта – папа. За десять дней построить дом? Легко!
Дело было в далёкие 80-е. Тогда он отправил маму в санаторий-профилакторий, а сам принялся за постройку дачного дома. И не какого-нибудь курятника, а самого, что ни на есть настоящего дома из белого кирпича, добытого по страшенному блату.
Мама уехала отдыхать, когда на участке одиноко страдал фундамент, а приехала в готовый дом под крышей. Дальше – больше. Бассейн, с системой сообщающихся сосудов для полива. Другой дачный домище с колоннами и баней по науке. И ещё один бассейн.
Такого в те времена не было ни у кого. Было всё: ванны, бочки, цистерны, а большой бассейн был на даче только у нас.
После бани и бассейна, самое приятное – примостится на качелях с кружкой чая со смородиной или мятой. И именно поэтому, первым делом, во дворе папиными стараниями появляются качели.
Мы переехали обратно в Новосибирск, и купили «избушку на курьих ножках». Само собой, первыми строениями на новом месте были: совершенно шикарный нужник и качели, которые было видно далеко-далеко.
Только потом, мы общими усилиями, построили большой дом по всей науке.
Блиц-криги по поклейке обоев, пятилетка за три дня – это по-нашему. Золотые руки, целая пачка рационализаторских предложений, миксер, Дароснваль своими руками и миллион нужностей – это к папе.
Поговорить обо всем, запомнить сто тыщ миллионов фактов, обсудить политические вопросы, бесконечные знания во всех сферах – тоже наш папа.
Потрясающие рисунки простой шариковой ручкой. Стихи… и снова золотые руки, к чему бы не прикасался.
И это не самый главный козырь. – Я полюбила отца за чувство юмора, – всегда говорила мама. И это совершеннейшая правда. Серьёзно! Весь Камеди нервно курил бы, если бы папа вышел на сцену. Бабушка с благоговением говорила: «Ну ты язва желудка, Владимир Николаевич!», – и нежно любила зятя за чувство юмора.
Изготовление рогаток, постройка скворечников, костры, походы, пикники – лучше компаньона, чем дед не найти.
Все мои супер-способности сделать ремонт за день – это наследственное, в папу.
Каждый день стремление учится, совершенствоваться, узнавать новое, не сидеть на месте – это тоже папа.
Глава 8 Память в ладошках
Мудрый человек учится всю жизнь. Всему, что можно впитать и применить на практике, или просто оставить в кладовой памяти. Вдруг пригодится.
Такой человек, как губка: читает книги, подмечает нужное у других людей, находится в вечном поиске истины. Для него нет разницы, у кого учиться, если от этого есть польза.
Самому интересному можно научится у детей, так считал дед. Он всегда живо интересовался учёбой, и поэтому мы делали всё вместе. И уроки, и поделки из книги «Сделай сам».
Так вот! В третьем классе я притащила деду тетрадь с дневником наблюдений, по окружающему миру. И всего-то дел, нужно отметить температуру, и нарисовать облачность.
Но, мне тогда было скучно. Разве ж можно какие-то наблюдения сравнить с практическим изучением природы? Померить лужи в резиновых сапогах или посвистеть в свистульки из стручков акации, куда интереснее. То-то.
А деда это увлекло. «Научный подход!», – сказал он и принялся заполнять дневник. Каждый день, на протяжении двадцати лет. Погода, облачность, значимые события и в стране, и в семье.
Это завораживает. Листаешь странички 1985 год, 1986 год – рождение сестры и авария на Чернобыльской АЭС, 1987 год – рождение брата, 1991 год Горбачев вышел из КПСС, а следом СССР превратился в СНГ, 1993 год – денежная реформа.
Я могу открыть любой год и увидеть: ага, тогда шёл дождь, валил снег или шумела гроза. Увижу события, которые происходили в те годы.
У меня до сих пор мурашки до самого сердца. Только вдумайтесь, каждый день! Вести дневник, не прерываясь ни на один день.
С одной стороны, такая вроде мелочь. А с другой стороны, невероятно. Память, которая останется с нами, пока мы листаем эти тетради с пожелтевшими от времени листами.
Глава 9 Принцессы на горошине
– Ба, пойдём уже, – канючила я, когда мы, заходили в магазин с тканями и торопила на выход, за мороженым по 15 копеек.
– Подожди, надо проверить, дышит или нет, – важно отвечала бабушка и пыхтела через ткань. Если ткань «дышала», бабуля покупала отрез, если – нет, висеть материалу дальше, до следующего менее разборчивого покупателя.
Гораздо позже. – Мам, ну что ты её мнешь? – тороплю маму, которая щупает ткани в магазине и задумчиво смотрит в потолок. – Как это что? А если к телу не приятно? – отвечает мама. Носить же невозможно будет.
Наши дни. – Мама, что ты там копаешься? Вот красивая ткань, и вот, покупай и пошли, – дёргает меня Каринка за рукав. А я трогаю, дышит или нет, мягкая или так себе.
К этому вопросу о принцессах на горошине, есть у нас в семье анекдот из жизни.
Бабушка с сорока пяти лет готовила себе гардероб в мир иной. То платье новое, то воротничок кружевной, а уж красивую обувь – обязательно. Вдруг чего.
Вооот. Прихожу как-то к ней в гости, она достаёт новенькие с иголочки туфли, надевает и говорит: «Тесноваты!». Прячет в шкаф, потом достаёт и говорит мне: «На-ка, внучка, разноси!». Разноси, так разноси. Напяливаю непокорную обувь и шлепаю по дому. Мне туфли великоваты слегка, но я не сдаюсь – разнашиваю, стараюсь.
Интересуюсь: «Ба, а зачем тебе эти туфли?». – Как зачем? Умру я, вы мне их оденете, а они жать будут. Неудобно же, – спокойно объясняет бабушка. – Ааа, вон оно как, – киваю я согласно головой.
Прошло ещё много лет, бабушка сменила ещё несколько пар туфель и нарядов и ушла от нас в дышащем платье и удобной обуви. А мы до сих пор вспоминаем этот случай и хохочем.
Хотя, по правде говоря, что-то давит на сердце. Не иначе синтетика… дышать нечем.
Глава 10 Воля к победе
Какой праздник без музыки? Правильно – скучный!
Дед мой, человек лихой и задорный музыку очень любил. Играть на гармони – было его заветной мечтой. Только осуществить мечту было некогда. Босоногое детство не баловало, потом пришла война. Ну, а затем, закружила-завертела жизнь. Дети, работа, заботы.
Легче стало только на пенсии… зимой. Если характер дюже живой и непоседливый, тут уж отдельный разговор. И мечта, мечта тоже не спит, щекочет. В общем, купил себе дед гармонь. Принёс домой, достал блестящую красотку. Довольный, растянул меха, – эх, хорошо!
Гармонь послушно пиликнула, кнопками своими новыми подмигнула, надписью сверкнула. Хороша.. Дед её бархоткой протёр и убрал обратно в чехол.
Играть-то не умеет! Пошёл на поклон в музыкальную школу, – мол, возьмите меня грызть гранит науки. – Ты что, дед? У меня тут семилетки, и ты будешь сидеть. Нет, не возьмём, – сказал, как отрезал директор музыкалки. – Ну раз так, думает дед, – сам выучусь! Добыл два самоучителя, и попутно прикупил баян. На всякий случай!
Самоучители – хорошо, но скучно. Поэтому дед придумал свою систему обучения и схемы, по которым раскрасил кнопки инструмента. Через три месяца дед дебютировал на празднике с заводной мелодией:
Эх яблочко,
Да на тарелочке!
Надоела мне жена —
Пойду к девочкам!
Конечно, как не выучить «Синий платочек»? Дело святое, учили вместе, вдвоем подпевая песню не в ноты. Упорство и труд, всё перетрут.
Сбылась мечта деда. Играть на праздниках на своей гармони. Держать в руках свой собственный инструмент.