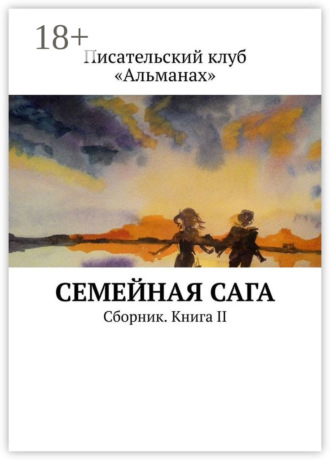
Семейная сага. Сборник. Книга II
– Оля, я пришла, – громко сказала Наталья Петровна. Никто не ответил.
– Оля! Я здесь! – еще громче с беспокойством повторила она. Тишина. Не разуваясь, она кинулась в комнату внучки. Ольга спала. Она никак не могла оправиться от сильнейшего потрясения. В руках у нее лежал тот самый сиреневый шелк, из которого мама должна была шить платье. На полу лежали детские фотографии, где они везде вдвоем.
– Надо тебя забирать отсюда, девочка моя, – приговаривала бабушка, нежно гладя Олю по голове.– И не в Москву, а к себе. Научу тебя своему делу и передам совсем.
– Я не хочу ничего, – тихо сказала проснувшаяся Оля. – Мне в Москву нужно. Там проблемы.
– Тебя там подставили. Уволиться тебе надо.
– С чего ты взяла, что подставили?
– Оль, это же очевидно. Эта твоя коллега Ира уволилась, пока ты была в отпуске. И все свои проблемные компании оставила тебе. Ты же согласилась… И разгребать тебе теперь. Вот и думай, оно тебе нужно или нет. Поэтому давай-ка поедем ко мне…
– А это все? – спросила она про материну квартиру.
– Пусть стоит. Это будет местом твоей силы. Будешь приезжать сюда, ведь это твой дом.
– Я подумаю.
– С отцом не хочешь поговорить?
– Нет. Он чужой мне человек.
– Зря. Тебя никто не заставляет его любить. Можно просто общаться. Хотя бы узнай, что он за человек.
– Только ради тебя и мамы, ведь она хотела, чтобы мы поговорили.
– Вот и умница. А теперь предлагаю погулять и немного развеяться. Как ты на это смотришь?
– Не хочу, но нужно. Пойдем.
Глава 12
— Иван Андреевич, к вам посетитель. Она без записи. Некая Ольга Ивановна Туровцева. Говорит, что вы ее ждете.
– Проводите ее ко мне, – ответил доктор, встал с рабочего места и подошел распахнутому настежь окну, из которого врывалась в жизнь весна, пели птицы и солнце смотрело на землю как-то по-особенному тепло.
– Доброе утро, – поздоровалась Ольга. В ее голосе не было былой жесткости и неприятия.
– Доброе утро, рад тебя видеть! Как поживаешь?
– Я приглашаю вас на вечернюю чашку кофе. Вы сможете сегодня?
– Да, смогу, конечно.
– Спасибо. Тогда я зайду вечером.
Вечер отец с дочерью провели замечательно. Оба были довольно искренни и сразу прониклись друг к другу уважением. Договорились, что будут созваниваться. В свои планы отца Ольга не посвящала, ведь она еще не решила, куда отправиться и где все-таки остаться. Московская перспектива не радовала – как-то не было желания ехать в проблемную компанию, где исход должен был быть один: увольнение. Но не это ее пугало. Она только что обрела семью, родных людей. И быть далеко от них она теперь не представляла возможным. Особенно это касалось бабушки, которой она восхищалась, у которой было чему научиться.
Думая о предстоящем выборе, Ольга гуляла по мостовой и размышляла. Казалось, что все замерло и ждет ее решения: солнце повисло желтым светящимся яблоком над рекой, вода тихо пела колыбельную, ветер молчал, птицы устали петь и попрятались по уютным гнездам. Смеркалось. А дома ее ждала Наталья Петровна. Решение было уже готово внутри, его нужно было только сформулировать и озвучить. Да, она решила, что останется с бабушкой: потеряв мать, она стала внимательнее относиться к людям, прислушиваться и чувствовать их. Бабушке она нужна была, а бабушка нужна была ей.
Через неделю Ольга рано утром стояла на волгоградском вокзале с двумя чемоданами. Навстречу ей бежала бабушка с огромным букетом цветов и счастливой улыбкой.
– Ну что, внуча, в другую жизнь? Только мы с тобой сейчас не домой поедем, а в аэропорт.
– Какой аэропорт?
– Мы едем в Италию на неделю, нам нужно отдохнуть, прежде чем мы с тобой приступим к работе. И потом нам нужно отвлечься. Едем?
– Даа, – ответила несколько ошарашенная Ольга внезапным предложением Натальи Петровны.
У вокзала их ждало такси и путешествие в новую жизнь.
Эпилог
– Мне в 201 палату нужно срочно!
– Я не могу вас пустить, сейчас два часа ночи… Не имею права…
– Да плевать! Я позвоню Олегу Николаевичу сейчас.
– Звоните. Без разрешения не пущу!
– Олег, доброй ночи. Прости, что поздно. У меня внучка родила, мне к ней нужно очень. Нет, не пускают без твоего разрешения, – Наталья Петровна протянула телефон дежурной медсестре.
– Да, поняла. До свидания. Пойдемте со мной.
«Внучка! Нет, правнучка! Машенька, дочка, не дожила ты… Я за нас двоих нанянькаюсь…», – так думала новоиспеченная прабабушка, пока шла по тихому коридору в палату к Ольге.
Через год после приезда в Волгоград Ольга под руководством бабушки открыла свою кондитерскую, где довольно успешно развивала навыки бизнесwomen. Там же она встретила Игоря, начинающего хирурга, вышла замуж и вот родила дочь. Отец ее, Иван Андреевич, регулярно наведывается в гости: отношения их с Ольгой стали напоминать отношения отца и дочери.
Пройдет еще два года, и они с мужем станут владельцами небольшого загородного отеля на берегу Волги, у них родится сын. Бабушка до последних дней будет с ними: они с Ольгой с момента воссоединения и до самого конца были неразлучны.

Борисова Юлия
«После войны».
Краткое содержание
Действие разворачивается на протяжении 70 лет: с 1945 по 2015 годы и затрагивает судьбы четырех поколений: Семена Прокопьевича, его сына Григория, невестки Шурочки, внуков Ильи и Елена и правнука Алексея.
События начинаются с возвращения семьи Семена Прокопьевича из эвакуации. Параллельно развивается сюжетная линия сложной судьбы Шурочки после смерти матери.
Две судьбы, Григория и Шурочки соединяются и наступает время семейного счастья, в котором рождается и взрослеет их сын Илья.
Умирает Семен Прокопьевич, за ним Григорий, уезжает учиться Илья, и Шурочка остается одна с дочерью.
Женская судьба Лены тоже выдалась непростой, воспитать сына у неё не получилось.
Именно Алексей, то ли по незнанию, то ли по легкомыслию, разрушит память о предках.
Пролог
Из эвакуации Семен Прокопьевич привез семью на пепелище. Немцы, покидая Смоленщину, жгли деревни и разоряли хозяйства. Был апрель, снег уже стаял и обнаружил под собой обугленные фундаменты домов и одинокие свечки печных труб. Дом стоял возле оврага, дальше деревня заканчивалась. И сейчас, если смотреть на долину, где желтели вербы и блестел ручей, начинало казаться, будто войны и не было вовсе. А она была. Как была и мать Семена, Марфа Игнатьевна.
Пожилая женщина уезжать из родных мест наотрез отказалась: «Это Вам, молодым, легко. А я куда? Тут дети мои родились, могилы родителей, мужа здесь. Я – как большое дерево – хоть с корнем пересаживай, а не приживусь нигде больше. Немец, он, знать, на старуху-то и не поглядит».
И вот сейчас сосед Иван Кузьмич стоял перед Семеном, переминался с ноги на ногу, сжимал в руках деревянную палку и бормотал: «Уж не обессудь, Прокопьич, не уберег я Марфу. Так бомбили, что у неё от страху ноги отнялись. Как начали дома жечь, вытащил её на улицу, тяну к оврагу, чтобы схорониться, а она плачет: фотокарточка мужа в хате осталась. Эх!…» – старик пошарил за пазухой, скрутил папироску. Щурился, часто моргал, смотрел в сторону, и старался не заплакать. «Немец гонит нас, а она идти не может. Так и выстрелил, ему-то что. Это уж когда наши пришли, похоронил я её тут же, у оврага. Ты уж сам реши, то ли крест поставить, то ли как». Старик неуклюже сгорбился, повернулся и молча вышел за калитку.
Что делать, жить-то надо. Сначала рыли землянки, благо, что лето пришло. Потом Семён и лес в колхозе выписал, дом поставил. Бревна выбирал придирчиво, следил, чтобы венцы были уложены крепко. Несколько хороших досок в чулан отнес: «По весне Митричу отдам, чтобы наличники поузорнее вырезал».
Как заселились, пошел Прокопьич в рощу, выбрал березку постройнее и посадил возле дома, там, где Иван Кузьмич Марфу Игнатьевну хоронил. Тут же и дубовую лавочку в землю вкопал. «Меня не будет, а, может, кто из внуков присядет, вспомнит всех, что тут до него жили, да и нам на том свете теплее будет», – думалось Семену Прокопьичу.
Глава 1
Отец Шурочки умер ещё до войны, поэтому пенсию они с матерью и старшей сестрой не получали. Как многие из их деревни, из эвакуации вернулись в чистое поле, к осени поставили избушку. Мать надорвала спину ещё в 1944-м, поэтому теперь по большей части всё лежала. Изредка поднимется сделать что-то по хозяйству, а так даже чугунок до печки не донесет – роняет. Пока была жива Анна Тимофеевна, мать отца, худо-бедно справлялись. Выручало хозяйство. Шурочка даже успела отучиться в начальной школе.
Однажды весной, на Пасху, засобиралась Анна Тимофеевна в соседнюю деревню: «Мужняя могила уж заросла, поди, а где сына похоронила и не найду уже. Не по-людски как-то». Ушла с первыми петухами. Нашла могилки, убрала мусор, посидела, поплакала. Обратно идти через реку. Весна ранняя была, вода разлилась, даже на мосту по колено стояла. Вернулась Анна Тимофеевна поздно, долго сушилась у печки, кашляла. Утром встать уже не смогла. За неделю бабушка угасла.
Вроде бы и не было у Шурочки детства особенно, а тут оно и вовсе закончилось. Старшая сестра отправилась работать в колхоз. 10-летняя Шурочка сначала занималась хозяйством, потом сама пошла в доярки. Какая тут учеба, когда к вечеру валишься от усталости. Денег в доме совсем не было, работали за трудодни и за продукты, разве что сходишь в город и обменяешь мешок картошки на ботинки или отрез ткани. Через три года сестра уехала на заработки на Север, стала присылать часть зарплаты, но тоже совсем немного.
Когда Шурочке исполнилось 16, умерла мать.
Хоронить приехали из соседнего района материны сестры.
Как водится, позвали плакальщиц: женщины в черных одеждах вставали на колени, причитали в голос. Шурочка рыдала и кричала с женщинами в траурных платках. «Плачь, дочка, плачь», – легла на голову девочку шершавая ладонь старшей тетки Авдотьи.
Глава 2
Осталась Шурочка одна. Днем в колхозе, а вечером приходила в свою низенькую хатку.
Раньше, бывало, вернется домой, ног под собой не чувствует, вдруг слышит – тихий голос зовет: «Поди сюда, дочечка моя дробная, пожалею. Тяжело тебе, а помочь ничем не могу». Девочка тогда прижималась к матери, слушала ровное биение её сердца и смирялась со своей судьбой.
Теперь же нет никого. Только тишина.
Тетки звали к себе – не поехала: зачем быть обузой в чужой семье? А так – сама себе хозяйка. Дом есть, прокормиться сможет.
Едва исполнилось семнадцать – пошла на лесозаготовки. Хоть работа и мужская, зато платят больше.
Первый год прошел спокойно, а на второй к Шурочке зачастили тетки. Старшая обычно сядет, поправит платок на голове, разгладит платье на коленках, помешает чай ложкой в стакане, сахар отодвинет, кусочек хлеба отщипнет.
Разговор всегда получался одинаковый:
– Изба-то, Шурочка у тебя совсем покосилась.
– Позову плотника из нашей бригады – поправит.
– И как же ты так-то? Одна с мужиком? А ну как что нехорошее задумает?
– Пусть только попробует! Я быкам хвосты кручу, уж с мужиком-то справлюсь!
– Замуж тебе пора! Мальчика присмотри, сосватаем.
– Нет, тетя Авдотья, уж как я теперь живу одна барыней, так никогда ещё не жила. Никого мне не надо!
– Ох, Шурочка, вот помру, так на том свете спросит твоя мать-покойница, как я за тобой приглядывала, как сироте помогала? Что я ей отвечать буду?
Шумно вздохнув, Авдотья поднималась, хмуро оглядывала скудное убранство Шурочкиного дома и начинала прощаться.
Однажды утром приехали обе тетки разом. Начала младшая:
– В-общем так, племянница, работница ты у нас передовая, сама из себя видная. Сирота, конечно, ни гроша за душой, но характер смирный. Сама понимаешь, с таким богатством чуть замешкаешься, так в девках и состаришься. А тут как раз в соседней деревне невесту парню хорошему ищут. Семья богатая, хозяйство большое. Как у батюшки родного жить будешь!
И как-то всё так быстро у теток сладилось, что через неделю Шурочку стали готовить к смотринам.
Глава 3
10 лет прошло после войны. Трудно было, но семью Семен Прокопьевич поднял.
Две коровы, бычок, овцы, пасеку свою держал, огород большой. Конечно, пот на рубахе не просыхал, спина не разгибалась, зато всё своё. Дети тоже в люди вышли. Старшего проводил на фронт и с фронта встретил. Вся улица смотрела, как Федор шел к дому живой и весь в орденах. Средний на заводе в эвакуации трудился, ещё и 16 не было, а значок труженика тыла имел. Дочек воспитал работящих, выдал замуж в хорошие семьи.
Односельчане Прокопьича уважали: по совести жил старик, крепко и ладно у него всё получалось.
Замечали его за версту:
– Будь здоров, Прокопьич!
– И тебе не хворать, Пантелеич!
А с младшим сыном вообще история вышла. За 5 лет до войны жена Семена Прокопьевича, Марья, почувствовала, что ждет ребенка, ей было уже за сорок, по меркам того времени возраст почти пожилой.
– Стыд-то какой, – призналась Марья мужу, – внуки скоро пойдут, а я, как молодая, ребенка жду. Что люди скажут?
– Молчи! – прикрикнул Прокопьевич. – Даже думать так не смей! Сколько бы ни было детей, а все свои, законные.
Как пришел срок, спряталась Марья в хлеву. Мальчик родился слабенький, лежал на холстине и не шевелился.
– Едва на свет появился, а Бог уж тебя забрал…, – вздохнула Марья.
Только подумала, как мальчик всхлипнул, да как закричит во всю Ивановскую!
– Ну что, мать, – радовался потом Прокопьич, – певца нам на старость лет родила?
У Гриши и правда был отменный голос. Услышал однажды, как бабы на сенокосе поют, подхватил, да так звучно, так красиво! Уже взрослым парнем мог затянуть песню ещё в начале деревни, а на другом конце уже слышали, что младший у Прокопьича домой идет.
– Отпусти, отец, Гришку к нам в город, – просили старшие сыновья у отца, – мы парнишку поднимем, может, артистом станет, будешь Гришку по радио слушать.
– Каким таким артистом! – начинал сердиться Прокопьич. – А кто трудиться будет? Все поразъехались, мы с матерью старые уже, а хозяйство каждый день заботы требует!
Рабочих рук на самом деле уже не хватало, а сажать поле поменьше или держать не так много скота Прокопьичу гордость не позволяла. Тогда он решил женить младшего сына. Сначала ходил к соседям, присматривался, потом стал в соседние деревни по всяким делам ездить. А тут однажды пришла Авдотья, что мёд и шерсть овечью у него покупала.
– Слышала я, что невесту Гришке присматриваешь.
– Есть такое дело! – добродушно улыбнулся в бороду старик.
– Племянница у меня имеется. Молодая, красивая, работящая. Хотя сирота и приданого нет, зато к роскоши непривычная, лишнего куска хлеба у тебя не спросит.
Не ведал Гришка, не гадал, что судьба его тут и решилась.
Глава 4
Изба тестя по сравнению с низенькой Шурочкиной хаткой казалась царскими хоромами: большая, основательная, на высоком фундаменте. Дом был деревянный, но не просто собранный из бревен, а ещё и аккуратно обшитый досками и выкрашенный в зеленый цвет. За окнами в резных белых наличниках – чистейшие тюлевые занавески.
Внутри светло и просторно. Деревянные полы коричневого цвета, на них – домотканые половики в бело-красно-черную полоску. В первой комнате стоял большой круглый стол, покрытый новой клеенкой вместо скатерти, в углу – икона в вышитом рушнике.
Шурочке с Гришей выделили целую комнату за шторкой. Там помещался небольшой платяной шкаф с зеркалом на правой дверце, ножная швейная машинка, которую можно было перевернуть вниз, и тогда получался маленький столик. Главную достопримечательность комнаты составляла кровать. Она была новая, на пружинах, правую и левую спинку украшали металлические шары. Тетки расстарались и собрали приданое для Шурочки: огромную пуховую перину и пять подушек, которые можно было уложить одну на другую; всё это богатство застелили на кровати. Сверху – покрывало, вязаное крючком из тонких ниток, – подарок Марьи молодоженам.
И муж у Шурочки тоже оказался хороший. Не высок и не низок, черноглаз, черноволос, за все годы, что прожили вместе, и не прикрикнул даже на жену.
Первый год замужества был самым счастливым. Сразу после свадьбы пришло время сенокоса. Отправились молодые далеко в поле, там, где колхоз делянку выделил.
Гриша резво косит: шаг – сноп травы падает ему под ноги, ещё шаг – падает второй. Шурочка не отстает, только изредка останавливается, чтобы поправить косынку и вытереть пот со лба.
За день наработаются, сядут возле скошенного стога, Шурочка нарежет крупно хлеб, сало, холодное молоко достанет. Гриша поест, посмотрит на жену, улыбнется, обнимет крепко и затянет песню:
Шумят вербы коло гребня,
Что я посадила,
Нема того казаченька,
Что я полюбила,
Нема его, тай не будя,
Поехав на запад,
Сказав, расти, девчиночка,
По вторую весну…
Голос у Гриши звонкий, переливчатый, когда поет, даже сердце замирает. И затейный какой! На каждый день у него новая песня имеется. Как тут не влюбиться?
А солнце уже садилось, но было ещё тепло, летний ветер и кузнечики в траве. Муж с женой, уставшие, оставались ночевать тут же, чтобы с утра, пока прохладно, продолжить работу.
Наутро, ещё и первый ряд не скосили, как слышался голос: «Эге-гей, работнички, не уморитесь смотрите!» – это Марья собрала обед для сына с невесткой и отправила Прокопьича в поле.
Глава 5
На Успенье, в аккурат после Яблочного Спаса, случился у Семена Прокопьича день рождения.
С самого утра Марья с Шурочкой хлопотали по дому: в большой комнате ставили столы буквой П, вдоль столов разместили лавки. На белую скатерть стали раскладывать угощения: аккуратными стопками толстые блины и миски со сметаной, молодую картошку с укропом и в сливочном масле, из печки вытаскивали большими кусками тушеное мясо, разливали в глиняные миски свежий мёд, а напоследок Марья шла в погреб и выносила холодец.
Гости собирались к полудню: городские как выспятся и доедут, деревенские – как управятся по хозяйству. Приехали сыновья и дочери с женами, мужьями и детьми, а старший, Фёдор, двух правнуков Прокопьичу привез. Так больше двадцати человек и набралось.
Заходили соседи и просто знакомые. Сядут за стол, выпьют за здоровье Прокопьича и начинают прощаться: «Мы к тебе уж потом, у вас тут дело семейное».
Поздравляют Прокопьича дети, а Гриша как улыбнется хитро, да как начнет:
«Ветер занавесочку
Тихонько шеве —шевелит…».
За ним сестры подпевают:
«А милый мой под окошечком
С другою говорит…».
Наконец, подтягивается басовитый голос братьев:
«Входит милый в комнату,
Закручивает он усы,
Сымает он да фуражечку,
Сам смотрит на часы…».
Так дружно пели, что даже дети оставили свои игры и стали слушать.
Провожали гостей поздно вечером. Стоя на крыльце, раздавал Прокопьич подарки и жутко гордился, что после войны и солью было поделиться жалко, а теперь вот хоть целый мешок муки отдать можно. Тому шмат сала положит, этому – бочонок с медом или банку топленого масла. Дочкам по мешку шерсти выделил.
– Это ж мне всю зиму прясть! – смеялась младшая.
– Пряди-пряди, а то ж батя приедет по весне и проверит, – отвечала старшая.
Ночью, засыпая, Гриша шептал Шурочке: «Вот такая у нас с тобой семья…».
То была Шурочкина молодость, когда и вода была слаще, и хлеб вкуснее.
Глава 6
Из детства у Илюши сохранились запахи: изба пахла вытопленной печью, мать – молоком и ветром, отец – баней и влажным деревом, а дед… дед пах воском и тёплым медом.
Семен Прокопьевич остался в памяти внука целой эпохой, когда можно было взяться за крепкую руку, шагать по большой незнакомой улице и ничего не бояться.
Особенно Илья любил разговаривать с дедом, когда тот сидел на лавке под большой березой у оврага и плел корзины из лозы. У старика была седая голова и белая борода до середины шеи, а глаза голубые-голубые, озорные такие и добрые.
– Видишь, Илюша, эту березу? Листьев много и ветки большие, а всё почему? Потому что корни сильные. Ты – как вон та веточка наверху, только расти начинаешь, а не было бы у тебя такого ствола и корешков, был бы хиленьким, будто былинка на ветру, – рассуждал дед, – Ты березку-то береги, внучок, память это.
Помнил Илья, как отправились они к тетке Нюре попариться в бане. Пять километров до соседней деревни прошли пешком по лесу, уморились, а как березовым веничком их отходил теткин муж, как напились они чаю липового, так до позднего вечера сидели частушки пели.
Оставляли Прокопьича с внуком ночевать – не согласился, тогда запрягли лошадь и поехали провожать гостей.
Скрипит телега, глухо стучат копыта по земле, а с лугов душисто пахнет разнотравьем. Ночное небо синее-синее, а впереди – полная луна, да так низко висит, что ещё чуть-чуть и зацепится за ветки, да упадет на землю.
Не забыть такое.
А ещё как-то Прокопьича вместе с соседом, дедом Афанасом, вызвали в военкомат, пенсию назначать, Илья увязался следом. Хоть соседи и ровесниками были, да дед Афанас всё хворым и беспамятным прикидывался, он и в колхозе-то пастухом еле-еле работал.
– Сколько, дедушка, Вам лет? – спрашивали Афанаса в военкомате.
– А кто ж их считать-то будет? Помню только, что на Николу Зимнего родился, а там уж много годов прошло.
– Дедушка, а Вам сколько? – теперь уже Прокопьичу вопрос.
– Так с 1893 года я. Ещё в первую мировую воевал, а на последнюю войну не пустили, сказали, что старый уже.
Да так бодро Илюшин дед вел беседу, что Афанасу, как немощному, пенсию назначили, а Прокопьичу велели трудиться в колхозе, мол, дед при полной силе ещё.
Это уже потом Шурочка мчалась в районный центр, чтобы затребовать пенсию свекру: «Человеку семьдесят лет, а вы его работать заставляете!» – возмущалась мать Илюши.
Как-то уже под зиму загрустил дед, вечером позвал к себе внука и говорит: «Помнишь, березку-то? Вот… Помни…».
На следующий день Прокопьича не стало.
Глава 7
Как умер родной отец, Шурочка не помнила, а вот когда не стало Степана Прокопьевича, то будто кусок сердца отрезали и похоронили. Рана со временем превратилась в рубец, но меньше от этого не стала.
Горевать же времени не было. Гриша пошел работать в соседний поселок на завод, смена длилась с трех дня до полуночи, обратно домой – шесть километров пешком, поэтому чаще всего ночевал в общежитии, в деревню приходил только на выходные. Хозяйством Шурочка занималась одна.
Встанет в 4 утра, может, к 10 вечера только приляжет. А что, как проснулась – бегом колхозных коров доить, а дома уже своя скотина ждет, тут же печь топить надо, детям приготовить и постирать.
Непростое это занятие – в чистоте себя содержать. Сначала воды из колодца наносишь, потом бельё в корыте замочишь и руками перетрешь, а там на речку везешь – полоскать; и так в любое время года.
Само собой, с весны огородные дела добавлялись: вскопать, посадить, прополоть, собрать урожай и убрать на хранение. Зимой тоже не до отдыха: из овечьей шерсти нитки напрясть, навязать семье теплой одежды; из утиного пуха наделать подушек.
Ближе к вечеру снова на дойку в колхоз, а потом домой: детей кормить, скотине зерно варить.
Хоть и полноправной хозяйкой в доме Шурочка стала, теперь её только Александрой Матвеевной и называли, а забот от этого меньше не становилось.
Однажды весной проснулась она раньше обычного, посмотрела в окно: вроде день как день, но почему-то не помчалась по делам, а открыла шкаф и посмотрела на платья. С тех пор, умерли свекровь со свекром, семейные праздники стали редкими, некуда было наряжаться. Шурочка выбрала самое любимое, крепдешиновое платье серого цвета в мелкий розовый букетик; надела, поправила рюшечки на груди, рукава фонариком, затянула пояс. В зеркале на шкафу отразилась подвижная стройная фигура молодой женщины, кокетливый изгиб талии, уверенный поворот головы, зеленые глаза смотрели полушутливо – полусерьезно. Так захотелось в ту минуту достать туфельки на каблуках и пуститься в пляс!
«Ну, хватит уже!» – решила Шурочка, надела своё обычно платье и вернулась в ту жизнь, где она была не привлекательной женщиной двадцати восьми лет, а усердной работницей, заботливой матерью и верной женой.
Глава 8
Двенадцатилетний Илья шагал по улице босиком и держал в руках черный хлеб, который был смочен водой и посыпан сахаром.
С утра мальчишка уже наносил воды в большую деревянную бочку, покормил кур и поросят. Частенько приходилось ещё и присматривать за младшей сестрой, но ту накануне укусила пчела, поэтому мать забрала дочь с собой.


