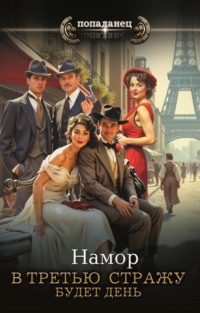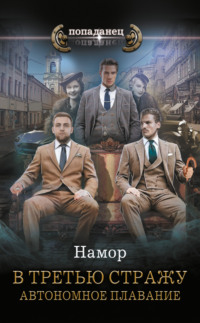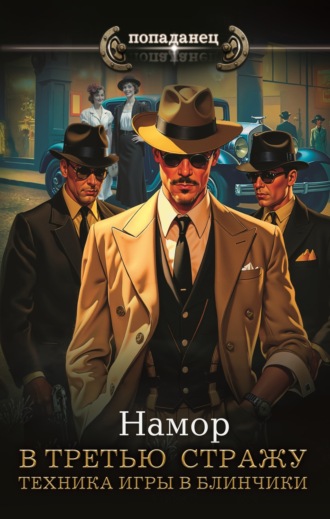
В третью стражу. Техника игры в блинчики
От подобных размышлений крыша готова поехать, да и ехала временами. Быть творцом истории оказалось опасным и довольно утомительным занятием. Но следовало признать, так интересно Олег не жил никогда.
Он доел суп: горячий, ароматный, с сыром пармезан и белым, утренней выпечки, хлебом, – и почувствовал себя в силах «вернуться» к письму. Выпил немного коньяка – сегодняшний день без споров назначен выходным – раскурил «гавану» и вытащил из внутреннего кармана пиджака письмо от Ольги.
По условиям игры Китти оставляла ему записочки и письма в отелях, где ночевала хотя бы одну ночь, или пересылала весточки через Вильду, которая не в пример «кузине Кисси» путешествовала куда меньше. Таких «писем» от Кайзерины Баст получил за последнюю неделю целых три. По ним можно проследить – хотя бы и самым поверхностным образом – за ходом перемещений баронессы, узнать о состоянии ее здоровья и превалирующей ноте в часто меняющемся «капризном» настроении, ну и почерпнуть еще кое-какие сведения «открытого» и «закрытого» характера. Однако сейчас речь шла совсем о другом письме. В последнее время – с мая месяца, если быть точным – они стали обмениваться особыми «les lettres». О, нет, ничего подозрительного в этих письмах, посылаемых через Главный почтамт Парижа – до востребования – разумеется, не содержалось. Но, тем не менее…
…вчера я задумалась о Рефлексии, – писала Кайзерина по-немецки четким чуть резковатым почерком. – Ты как-то заметил, мой друг, что в рамках «способности к познанию» Рефлексия выступает как проявление метакогниции. Рассматривая теперь эту мысль, я прихожу к выводу, что, возможно, Тейяр де Шарден не так и далек от истины, когда говорит…
И дальше, дальше, дальше… Одиннадцать страниц великолепного философского текста, еще одна глава изысканно-тонкого и глубокого романа в письмах – самого впечатляющего объяснения в любви, какое было известно Олегу. Ольга начала эту переписку как бы «в шутку», но очень скоро «шутки кончились»…
4. Ольга Ремизова, Мадрид, Испанская республика, 22 декабря 1936 года
Ночь выдалась холодная, но ясная. Ольга погасила свет в комнате, раздернула плотные шторы и открыла балконную дверь. Ветра не было, но с улицы дохнуло вполне зимней стынью. Мадрид, конечно, не Вена, но зима – она и в Африке… бывает.
Ольга выдвинула на балкон матрас, заранее припасенный для таких оказий, и выползла сама. Если не поднимать головы, не садиться и, тем более, не вставать, то и патрули, постоянно проходящие внизу, ничего не заметят. Можно даже покурить в кулак, но очень осторожно. Республиканцам везде мерещатся агенты фалангистов. Чуть увидят где свет, сразу начинают палить прямо по окнам, а разбираются – типа, и кто это тут подает сигналы фашистской авиации? – уже потом, чаще всего над телом «предателя». «Пятая колонна», «Но пасаран!», то да се…
А ночь выдалась чудная. Высокое небо сплошь в звездах, крупных – по-южному ярких, а между звезд скользят невесомые тени. То ли легкая дымка стелется над крышами домов, то ли птицы летают, то ли призраки…
«А я лежу на спине, как какой-нибудь Андрей Болконский, гляжу на это вечное небо и понимаю, какая я на самом деле мелкая и недолгоживущая тварь… Нет, не так! Я тварь божья, им сотворенная в непостижимой мудрости и с неизвестным расчетом и…»
Ее опять пробило на «философию», и это было скорее грустно чем смешно.
«Это от одиночества, – решила Кайзерина. – И от трезвости».
Она осторожно достала из кармана фляжку, свинтив колпачок, сделала несколько медленных «задумчивых» глотков. Стало лучше, но тут где-то далеко – кажется, на юге – раздалось несколько гулких взрывов. Потом совсем рядом ударил выстрел – Бух тарарах! – еще один, и сразу же завыла сирена воздушной тревоги. Одна, другая, третья… Голоса беды и отчаяния слились, заставив напрячься нервы и участиться дыхание, где-то в районе университета вдруг взметнулся луч прожектора, и заухали – словно сваи заколачивали – зенитки.
«Вот сейчас грохнет, и все! Баста жалко…»
Бум-бум, – раздалось за спиной, то есть там, где была бы ее спина, сиди Кейт на балконе, а не лежи.
И снова «бум-бум». Кто-то барабанил в дверь, мешая Кайзерине жалеть себя, и…
Бум-бум!
«Вот же люди! А если меня дома нет?»
Но она была «дома» и потому поползла открывать.
А за дверью нервничали «три богатыря», весьма живо реагирующие на близкие разрывы фашистских бомб: Кармен, Макасеев, Эренбург.
– Кейт! – выпалил Кармен, едва дверь отворилась. – Быстрее!
По-французски он говорил ужасно, но понять было можно.
– Куда? Зачем? – поинтересовалась Кейт, уже понимая, что наклевывается что-то интересное. Иначе «эти парни» не стали бы ломиться к ней за полночь.
– Генерал Дуглас[16] дает нам машину до штаба Урицкого! – объяснил Эренбург. Он был худ, аристократичен и говорил по-французски как парижанин. Впрочем, он и по-немецки говорил изрядно.
– Саламанка! – выдохнула пораженная услышанным Кайзерина. – Ведь так? Мы едем в Саламанку?
– Ну, не в саму Саламанку, – из-за спин «трех товарищей» появился четвертый, одетый в форму республиканского майора. – Здравствуйте, Кейт, – сказал он по-немецки.
Произношение у Пабло[17] было ужасное – то есть вполне «рязанское» – но, судя по всему, за прошедшие со дня знакомства месяцы, – а познакомились они в Барселоне в августе, – он «поднабрался» и в немецком, и во французском.
«Способный юноша… и явно с будущим».
– У меня есть пять минут, чтоб собраться? – переходя на деловой тон, спросила Кейт.
– Скажите ей, Илья, – по-русски попросил майор Пабло. – Что у нее есть полчаса.
Хроника событий
23 декабря 1936 года: во Франции вышел на экраны фильм «Дуня«(в немецком прокате «Ностальгия»), режисер Виктор Туржанский, в главных ролях Виктория Фар и Гарри Бауэр.
24–25 декабря 1936 год: «Рождественская бойня» в Саламанке. Попытка штурма города советскими танками без пехотного прикрытия. Город взят, но наступление республиканцев остановилось. Погиб в бою командир танковой бригады, комбриг Дмитрий Павлов.
Афиша фильма «Дуня»
Режиссер – Виктор Туржановский.
Сценарий – Раймон Поль.
Композитор – Раймон Поль.
В главных ролях: Виктория Фар, Гарри Баур, Жан Маре
Событие киносезона! Захватывающий фильм из русской жизни по знаменитой новелле Пушкина «Станционный смотритель».
Драма русской девушки, которая из сельской тишины попала в вихрь петербургской жизни… Блестящие балы большого города, развлечения гвардейского офицера, интриги и предрассудки аристократического общества – таков фон, на котором происходит трагедия обманутой девушки и борьба отца за честь своей единственной дочери… Терновый путь Дуни по трущобам Петербурга… Любовь выше карьеры… Два сердца вернули свое счастье… Апофеоз всепобеждающей любви…
Никогда еще драматический талант Гарри Баура, очарование блистательной Виктории Фар и мужественность Жана Маре не увлекали так зрителей, как в этом незабываемом фильме!
«Дуня» – блестящий триумф киноискусства! В роли Дуни известная певица Виктория Фар, которая с невероятным блеском дебютировала в кино фильмом «Виктор, Виктория».
Русская музыка! Русские танцы! Песни Раймона Поля! Постановка всемирно известного режиссера В. Туржанского.
Глава 3
Приключения английского журналиста
1. «Действия сводной маневренной мотомеханизированной группы в Первой Саламанкской операции 1936 года». Оперативно-тактический очерк начальника кафедры Академии Генерального Штаба РККА, комбрига Андрея Никонова (отрывок)
«…Маневренная группа Павлова была создана на базе 4-й мехбригады. Кроме подразделений самой бригады в группу были включены 1-й и 25-й отдельные танковые батальоны стрелковых дивизий корпуса, а также два стрелковых батальона 3-го стрелкового полка. Пять танковых батальонов составляли ударный кулак группы, который прекрасно дополняли три стрелковых батальона, полностью обеспеченные автотранспортом. Для этой цели командование корпуса передало группе треть приданных корпусу испанских грузовых автомобилей…»
2. Степан Матвеев, деревня Пелабраво (в семи километрах от Саламанки), Испанская республика, 23—24 декабря 1936 года
Комнатка богатого деревенского дома, где заперли Матвеева, – маленькая, но трогательно-чистенькая, почти игрушечная, – наводила на грустные мысли. Небольшое окошко со стеклами в частом деревянном перепле те, узкая – «девичья» – кровать, небольшой стол и единственный табурет, непременное распятие на побеленной стене – все располагало к молитве, размышлениям о бренности сущего и неспешному прощанию с окружающим миром перед неизбежным переходом в мир иной.
«И дернул же меня черт не поверить проводнику и выехать на шоссе! Pobrecito![18] – Степан, сам того не замечая, начал ругаться по-испански. – Loco![19] Идиот недоверчивый! А Мигель тоже хорош… был… бедолага».
Когда проводник понял, что англичанин хочет выбирать дорогу сам, обиделся, козел, пересел на заднее сиденье и замолк, надувшись, как мышь на крупу. Ни слова не сказал, когда Степан свернул не налево, к Кальварассо-де-Аррива, а направо, в сторону Кальварассо-де-Абахо. Впрочем, и смерть принял так же молча, лишь плюнул в лицо командиру республиканского патруля перед выстрелом… Герой…
С самого начала все указывало на то, что поездка, а по сути – бегство из Мадрида, легкой не будет. Первым «звонком» стала внезапная болезнь здорового как бык Теодоро, выделенного «в помощь» лондонскому журналисту Майклу Гринвуду заинтересованными людьми и исполнявшего обязанности водителя, охранника, да что уж теперь скрывать подозрения, – и соглядатая, то ли от СИМ, то ли от СИГС[20]. «Тэда» заменили на Мигеля, не умевшего водить автомобиль, зато известного полковнику де Рензи-Мартину[21] чуть ли не с албанских времен. Было и еще несколько мелких, – похожих на случайности, – штришков… не простых, многозначительных… во всяком случае для профессионала, коим Гринвуд себя не без оснований считал.
«Ага, а в новых обстоятельствах могу перестать им быть. По причине безвременной кончины, так сказать, от рук «кровавой сталинской гэбни», – мысли, столь же невеселые, сколь и неоригинальные, не отпускали Матвеева, заставляя раз за разом прокручивать в памяти события последних часов. Сетовать, однако, он мог только на отсутствие маниакальной подозрительности, так и не ставшей неотъемлемым свойством его характера.
«Паранойя, паранойя, а я маленький такой…» – пропел про себя Степан, в очередной раз и опять совершенно неосознанно перейдя мысленно на русский.
Ну и что с нее толку, – в смысле, с паранойи, – если хозяин не желает прислушиваться к голосу пятой точки? Хорошо, что там же, на обочине дороги, не расстреляли вместе с Мигелито. Сразу. Попытались для начала проверить документы у «подозрительного сеньора», плохо говорящего по-испански, одетого более чем странно и путешествующего в компании явного контрреволюционера. Хоть и не поверили, но протянули время. А потом…
«Потом – не успели».
Ужасно хотелось курить. «Сил терпеть просто нет сил – каламбурчик неудачный», – подумал Степан, но об «выйти на крылечко» не могло быть и речи. Поэтому, плюнув на отсутствие пепельницы и на окно, добросовестно заколоченное: острия здоровенных гвоздей, блестящие, еще не тронутые ржавчиной, были загнуты в оконной раме со стороны комнаты, Степан вырвал из блокнота чистый лист, свернул фунтик, какими пробавлялся в молодые годы в неприспособленных для курения помещениях, и потянулся к портсигару.
* * *Несколько часов назад машину Матвеева остановил патруль республиканской армии, состоявший, судя по кокардам на пилотках, из каких-то анархистов. Поначалу ситуация показалась Степану рутинной: мало ли за последние месяцы в Испании его останавливали и требовали, чаще всего на малопонятном языке, лишь по недоразумению считавшемся все – таки испанским, предъявить документы. Однако очень быстро, едва ли не мгновенно «проверка на дороге», словно в ночном кошмаре, переросла в нечто решительно ужасное.
Один из патрульных, щуплый, прихрамывающий коротышка, вдруг, пулеметной скороговоркой выплевывая слова, закричал, обращаясь к командиру, и начал весьма недвусмысленно тыкать пальцем в невозмутимо сидевшего в машине Мигеля. Степан понял с пятого на десятое, но и от этого немногого волосы встали дыбом, что называется, не только на голове.
– Это он! – кричал боец, сдергивая с плеча слишком большую для него винтовку с примкнутым штыком. – Я узнал его! Хватайте этого… товарищи! Это жандарм… пытал… убил… враг!
Лень и некоторую расслабленность патрульных как ветром сдуло. Секунда, и машина оказалась под прицелом десятка стволов – от командирского тяжеленного револьвера, до ручного пулемета, – игрушки в мозолистых лапищах высокого и широченного в груди и плечах республиканца, по виду бывшего шахтера, или – всяко бывает! – циркового борца. А еще через пять минут состоялся финал трагифарса «Суд», с беднягой Мигелем в главной роли. Возможно, он и правда подвизался когда-то в жандармах. Возможно, но теперь раздетый до исподнего труп его валялся в придорожной канаве, и по-зимнему сухая земля Каталонии жадно впитывала кровь из порванного пулями тела.
Матвеева – под горячую руку и на волне революционного негодования – вытащили из-за руля, обыскали и, несмотря на отчаянные протесты, сочетавшиеся с попытками предъявить документы, и ругательства на жуткой смеси испанского и английского, приказали раздеваться.
«Ну, вот и все… – как-то отстраненно мелькнула мысль. – И даже не прикопают, суки, так бросят… На радость бродячим собакам. Интересно, – подумал Матвеев секунду спустя, – я сейчас совсем умру или очнусь первого января в Амстердаме с больной головой? Жаль только…»
Мысли его, как и действо по исполнению высшей меры революционной справедливости, самым драматическим образом прервал гул автомобильных моторов. Звук, едва различимый из-за возбужденных криков республиканских солдат, стремительно превратился в рев. Степан обернулся и в подкатывающей автоколонне разглядел легковые «эмки», грузовики с солдатами и несколько бронеавтомобилей: легких – пулеметных, и тяжелых – пушечных.
«А, вот и кавалерия из-за холмов! Будем считать, что шансы на благополучный исход растут. Только бы они остановились… Только бы не проехали мимо!»
Повезло. Из притормозившей у обочины «эмки», придержав фуражку с черным околышем, сверкнув рубинами «шпал» и перекрещенными якорем с топором[22] в петлицах, не дожидаясь полной остановки, выскочил молодой командир с напряженным, злым, но отчего-то показавшимся прекрасным, лицом. «Русский, советский…» – Матвеев, внезапно накрытый откатом волны уходящего животного страха, обмяк в цепких руках анархистов и позволил себе потерять сознание.
«Будем жить!..»
Очнувшись, Степан обнаружил себя в собственном автомобиле. За рулем сидел капитан, тот самый, которого он увидел перед тем как «вырубиться». А на заднем сиденье два сержанта в советской форме («пилы» треугольников в черных петлицах), зажав между колен приклады пистолет-пулеметов (дырчатый кожух ствола, коробчатый магазин), подпирали Матвеева справа и слева.
– Товарищ капитан, англичанин очнулся, – подал голос правый сержант, напряженно косясь на оживающего Степана, шевельнувшегося и заморгавшего. – Может, руки ему связать?
– Отставить связывать, Никонов. Никуда этот хлюпик от нас не денется. Испанцы его не били даже, а он глазки закатил и сомлел как институтка, – капитан даже головы не повернул, но иронические, слегка презрительные нотки в голосе были явственно различимы. – Беда с этими интеллигентами, Никонов: болтать, да бумагу пачкать все горазды, а как до крови доходит, хуже кисейных барышень. Ну, ничего, мы почти приехали. Сейчас сдадим его в Особый отдел бригады – пусть там разбираются, что за птичку мы из силков достали.
«Со сковородки, да на огонь… – подумал Степан. – Для полноты картины еще армейских особистов не хватает. Ладно, с моим паспортом как-нибудь отбрешусь. Лишь бы не возникло у особо прытких «товарищей» соблазна вербануть по-быстрому попавшего в затруднительное положение иностранца. Интересно, кого мне напоминает этот капитан?»
Совершенно ясно, это было что-то из прошлого… Причем не из гринвудовского, а из матвеевского, дальнего-далекого. Что-то этакое вертелось в голове, но – увы – никак не вытанцовывалось. И эмблема в петлицах у командира какая-то совершенно незнакомая.
«Технарь вроде. Попробовать прощупать, что ли, пока не приехали?»
Громко застонав, Матвеев потряс головой, пытаясь максимально естественно изобразить человека, приходящего в сознание, к тому же только что избежавшего самосудного расстрела.
– Do you speak English, officer? – Степан обратился напрямую к капитану, игнорируя охранников.
Сидевший за рулем командир явственно дернулся и, не оборачиваясь, сказал:
– Это он, наверно, спрашивает, не знаю ли я английского. Придется огорчить буржуя. Нет! – последнее слово, произнесенное вполоборота, было четко артикулировано и подкреплено однозначно трактуемым покачиванием головой.
– Sprechen Sie Deutch? – Матвеев в зеркало заднего вида заметил, как капитан усмехнулся.
– Habla usted Espanol? – без результата.
– Parla catalana? – об этом вообще не стоило спрашивать…
«А вот как ты на такой заход отреагируешь?» – подумал Степан, изрядно разозленный тем, что ему явно, по выражению начала двадцать первого века, включили тупого.
– Pan znasz Polsky?
Последний вопрос, похоже, всерьез вывел капитана из себя.
– Полиглот, мать твою, королеву вперехлест… – в сердцах вырвалось у него, но продолжения не последовало. Сержанты никак не отреагировали на вспышку командира. Снизив скорость, колонна втянулась в небольшое селение. Перед взглядом Матвеева неспешно проплыл десяток улиц, настолько узких, что, казалось, высунь руку из окна – и достанешь до стены ближайшего дома или высокого каменного забора. Непременная iglesia parroquial – местная церквушка – на центральной площади, почти не разрушена, лишь с легкими следами копоти над входной дверью, да оспинами пулевых отметин по режуще-яркой побелке стен, но оставила ощущение опустошенности, брошенности.
«Бог здесь больше не живет, он покинул Испанию…» – мысль эта, простая, родилась сама по себе, без всякой связи с предыдущими, и настолько поразила Степана, что он оставил попытки еще как-то расшевелить сопровождающих. Или все – таки конвоирующих?
«Сначала Барселона, теперь вот эта деревня… Похоже, я все-таки прав. Если Бог уходит, его место занимает дьявол».
Улицы городка можно было бы назвать пустынными, если бы не патрули в красноармейской и республиканской форме то тут, то там открыто стоящие на перекре стках и низких крышах домов. И ни одного местного жителя…
Почти у самой окраины, где улица неощутимо и сразу переходила в проселочную дорогу, – такие Степан не раз и не два видел и на Украине, «еще той, советской» или, скажем, где-нибудь под Краснодаром, – колонна остановилась. Броневики сразу рассредоточились по площади, куда сходились несколько улиц, и перекрыли подъезды к группе домов, резко выделявшихся из однообразного – бело-соломенного с вкраплениями терракоты – окружения.
«Как гранд заметен на сельской свадьбе…»
Двухэтажные, с бледно-розовыми и светло-желтыми оштукатуренными стенами, с крышами, крытыми ярко-оранжевой, новой на вид, черепицей, – на слегка отстраненный взгляд Матвеева, – домики напоминали странный муравейник, вокруг которого деловито сновали сосредоточенные люди-муравьи в одинаковой одежде-форме, то и дело приветствуя друг друга взмахами рук к головным уборам.
«Ага! Похоже на штаб бригады, – Степан фиксировал детали привычно, не подавая вида, что заинтересовался происходящим. – Конечно, выбрали себе самые богатые дома. Хозяев, местных буржуев – на улицу, если те еще живы после перехода деревни под контроль республиканцев, а сами с комфортом разместились в барских хоромах».
«Форд», в котором везли Матвеева, – «интересно, кому он достанется?» – остановился чуть поодаль от основной группы машин, у самого большого дома с фасадом, украшенным высокими стрельчатыми окнами-арками и цветными стеклами в частом переплете рам.
Заглушив мотор и отдав сержантам приказ «не выводить задержанного до особого распоряжения» – от такой казенно-привычной формулировки у Степана чуть не свело скулы, так повеяло «родиной» – капитан направился прямо к парадному входу в дом. Быстро переговорив о чем-то с часовым, он скрылся за высокими резными дверями. Матвееву, стиснутому охранниками, казалось, еще крепче, чем прежде, оставалось только покорно ждать и по возможности – наблюдать. И думать, разумеется, выстраивая непротиворечивую линию поведения с «железобетонной» легендой, которая могла бы устроить местных чекистов. Не правду же им рассказывать, каким ветром занесло в эти неспокойные края, к самой линии фронта, респектабельного британского джентльмена с корреспондентской карточкой «Дэйли мейл».
«Хотя, если они каким-то образом узнают об истинной цели моей поездки, – да хоть святым духом! – не выбраться мне отсюда, пожалуй, никогда. Будь проклят сэр Энтони с его не вовремя проснувшейся подозрительностью и желанием перестраховаться!»
* * *Курьер из британского посольства, точнее тех несчастных нескольких комнат, что остались нетронутыми после погрома, устроенного разъяренной толпой в начале октября, оторвал Степана в баре гостиницы от утренней чашки кофе и большого сэндвича с хамоном – роскоши по военному времени.
– Сеньор Гринвуд! Сеньор Гринвуд! Хефе просить вас прийти быстро к телефону. Вас искают родственники из Уэльса, – парень запыхался, мешая испанские и английские слова. – Вашей тете стать плохо, совсем плохо!
От понимания истинного смысла этих слов поплохело уже самому Матвееву. «Родственник из Уэльса» в несложном шифре – это не кто иной, как сэр Энтони, а фраза об ухудшении здоровья «тетушки» означала требование выхода на связь в чрезвычайной ситуации. Нет, не так – в экстремальной ситуации, когда летели к черту все планы и возникала настоятельная необходимость срочно покидать место пребывания.
Через полчаса, сидя в душной клетушке комнаты связи, – бронированную дверь толпа погромщиков так и не смогла сломать, – Степан внимательно слушал «голос из Лондона». Сэр Энтони был непривычно, да что там «непривычно», попросту неприлично взволнован.
– Майкл, мальчик мой! Надеюсь, у тебя не осталось неоплаченных счетов и неудовлетворенных женщин? – речь сэра Энтони была вполне разборчива, хотя и пробивалась сквозь «пургу» помех. – Да, даже если и остались, забудь о них. Из посольства до особого распоряжения не выходи. Соответствующие инструкции де Рензи-Мартину я уже передал. Тебе предстоит покинуть Мадрид как можно скорее.
– В чем причина такой поспешности?
Но «невинный» вопрос Степана был отметен самым решительным образом.
– Не перебивай! – отрезало начальство. – Мне от тебя сейчас нужно слышать только три слова: «Будет исполнено, сэр!» – и не более того. Все расспросы и мелкие подробности – потом, когда перейдешь португальскую границу. Пока могу сказать только одно: тебе, как и некоторым другим нашим людям в Испании, угрожает серьезная опасность. Я хотел бы оказаться старым паникером, но, похоже, у нас текут трубы, если ты понял, о чем я говорю.
Матвеев понял. Даже слишком хорошо. Значит, как считает его лондонское руководство, произошла утечка информации о действующих в республиканской Испании агентах. Это действительно повод «рвать когти», и именно таким экзотическим способом. В морских портах и на немногих аэровокзалах его, скорее всего, уже ждут. Не важно кто конкретно: местные «красные», «товарищи из Москвы» или, скажем, «приятели Шаунбурга» – разница невелика.
Не прошло и двух часов после телефонного разговора, как аккуратно упакованные вещи Степана были доставлены из гостиницы в посольство, а сам он, в компании Мигеля, уже выезжал из Мадрида на стареньком «форде» с намертво заклиненным в поднятом положении откидным верхом.
До Кальварассо-де-Аррива, где его должны были ждать люди «с той стороны», чуть больше двух сотен километров по не самой лучшей даже на испанский взгляд дороге. Их Матвеев надеялся преодолеть часов за пять-шесть, если, конечно, не случится ничего непредвиденного.
Накаркал. Случилось. Да еще как…
* * *Теперь Степан, в одном нижнем белье – «Как же холодно… И угораздило дурака надеть шелковое… Пижон…» – сидел на заднем сиденье все того же «форда», в окружении напряженно-неподвижных «конвоиров», и беспрепятственно предавался воспоминаниям и размышлениям на тему: «что же пошло не так?».
Суета перед штабом, как-то неощутимо и сразу, замедлилась и даже словно бы упорядочилась. Из самого большого легкового автомобиля, без сомнения он был главным в колонне, вышли несколько командиров в больших чинах. Матвеев автоматически отметил, что один из них, судя по трем ромбам в петлицах, – комкор, а второй – мама дорогая! – целый командарм второго ранга. Командарм, при внимательном рассмотрении, оказался обладателем длинного носа, густейшей бороды и усов.