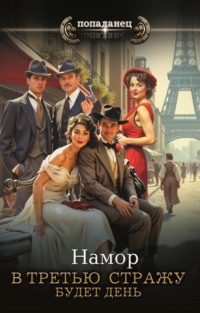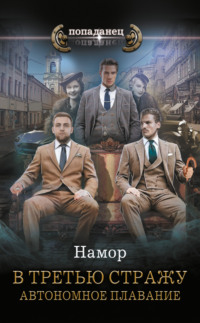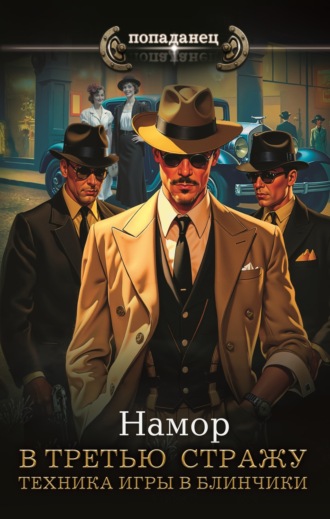
В третью стражу. Техника игры в блинчики
Да, и церковь со счетов сбрасывать не стоит. Антиклерикальной позиции левых – иногда просто самоубийственно неумной – противостоит многовековая католическая традиция, объединяющая националистов и многих из тех, кто пока колеблется в выборе стороны конфликта. А с политикой, проводимой местными властями по отношению к церкви и ее служителям, стоит ожидать массового притока в армию Санхурхо, Молы и Франко немалого количества добровольцев. Это ведь Испания и католицизм, а не Россия и православие, притом ощипанное самими же самодержцами российскими…
«Н-да, заварили товарищи революционеры кашу…»
Мысль не случайная и отнюдь не проходная, поскольку один вариант истории Матвееву был известен, и ничего хорошего левым он не принес. А что следовало ожидать от нынешнего поворота дел?
Разумеется, приход регулярных частей Красной Армии изменил соотношение сил, резко накренив чашу весов в пользу сторонников республики. Но это только начало, а что потом? Да, пожалуй, охота на троцкистов и прочих не выдрессированных левых начнется здесь гораздо раньше, чем в известной Степану истории, и скорее всего – будет более кровавой и не такой завуалированной. Только в итоге что? Ранний раскол Народного фронта, противостояние внутри антифашистского лагеря, быстро переходящее в вооруженную фазу: война всех против всех, отягощенная фактической иностранной интервенцией. А как еще назвать высадку советских войск в портах севера страны? Интернациональной помощью?
«Не смешно».
Но и националисты ворон не считают. Олег твердо сказал, что ни немцы, ни итальянцы «своих» не сдадут.
Что же делать? Не в смысле Чернышевского, а в самом прямом смысле слова. Им, попаданцам хреновым – что делать? Вероятно, пока имело смысл продолжать «гнуть свою линию», то есть затягивать как можно дольше возню вокруг Испании, вовлекая в орбиту конфликта новые страны. Похоже, это как раз тот случай, – пусть и звучит парадоксально, – когда ужас без конца послужит интересам мира гораздо лучше, чем ужасный и скорый конец. Притом любой конец: тот или этот.
А в результате – если получится, разумеется – могла бы возникнуть патовая ситуация, выход из которой возможен только в случае начала большой европейской войны. И не важно, с чьей подачи это произойдет. Виновника все равно назначат победители.
«И значит, стоит постараться, чтобы в рядах победителей оказалась и наша «чудная» компания. Почему бы и нет?»
Тем временем, «суета» вокруг собора Святого Семейства вплотную приблизилась к развязке. Назревал, так сказать, катарсис, и было в нем, следует отметить, нечто древнегреческое.
«Геростраты, мать их!»
Вот на небольшом свободном пятачке перед дверями храма начала расти гора книг, альбомов, бумаг, свернутых в рулоны чертежей. Вот из раскрывшейся папки вылетели на мостовую беззащитно-белые листы с какими-то рисунками, эскизами. Вот, пыхтя и надрываясь, трое мужчин тащат нечто странное, угловатое…
«Да это же макет! – с отвращением понял Степан. – Макет…»
Тщательно выполненная из дерева и картона модель будущего собора. Модель мечты в масштабе один к пятидесяти… или к семидесяти… но сейчас это было неважно.
Резкий хлопок вспыхнувшего горючего вырвал Степана из задумчивости, близкой к состоянию прострации. Сваленные в кучу бумаги и макеты весело пылали, пламя уже поднималось до уровня витражных окон собора, и стены его, объятые огнем, казались плотью от плоти всепожирающей стихии – настолько линии фасада гармонично сочетались с прихотливыми изгибами языков пламени.
Разгорающийся пожар привел в неистовство толпу на улице. Многоголосый гомон перешел в торжествующий рев победившего человеческий разум исполинского животного. Масса существ – в принадлежности их к людскому роду у Степана вдруг возникли серьезные сомнения – сплотилась и, начала превращаться в одно целое. Воплощение чего-то древнего и безжалостного. Из толпы – в монстра, вызывающего не просто безотчетный страх перед неуправляемой силой, но повергающего в ужас одним только допущением наличия у него подобия разума и воли. Злой воли, исковерканного разума…
«Так вот он какой – Зверь из Бездны… – откуда-то из глубины сознания Матвеева появилась мысль, изрядно удивившая его самого. То ли Гринвуд вдруг «ожил», то ли память предков совершенно некстати проснулась. – Предвестник наступления царства Антихриста. Или сам Антихрист. Враждебный всему людскому в человеках. И власть ему будет дана на сорок два месяца… Впрочем, кто ж теперь знает! Тьфу ты! Чертовщина какая-то!» – Степан сплюнул на мостовую и помотал головой, будто таким образом можно было стряхнуть чужие мысли, пришедшие непрошенными.
«Какой Зверь, какой Апокалипсис? Что за причуды? У убежденного агностика, попавшего в тело безбожника-сибарита?»
Матвеев продолжал удивляться неожиданному взбрыку сознания, выдавшему на-гора из закромов памяти четко сформированный образ с явной библейской подоплекой. Похоже, все от того, что революционное безумие сродни религиозному и весьма заразно.
«А разновидность такого помешательства, – назидательным тоном, словно учитель перед классом, констатировал Степан, – густо замешанная на анархизме и агрессивном антиклерикализме, еще и способствует регрессу личности, милостивые государи. Да-с, ускоряет его, и вот полюбуйтесь. Всего несколько месяцев, и извольте: вместо человеческого общества – толпа приматов. Точно как сейчас. Даже не прайд, и уж тем более не племя, а так… аморфная масса. Гигантская амеба, руководствующаяся примитивными рефлексами и простейшими потребностями. Смертельно опасная, в том числе и для себя… Вот так-то! А то звери всякие непотребные мерещатся, конец света…»
Бетон, впрочем, как и гранит с базальтом, практически не горят, в отличие от бумаги, картона и дерева. Выгоревший керосин оставил лишь длинные языки подпалин на стенах собора, придав незаконченному шедевру великого архитектора вид полуразрушенного людьми и войной здания.
«Руины дома Бога… Он здесь больше не живет…»
Обуянное страстью к разрушению, многоголовое чудовище – толпа – прогнало его прочь. И так – практически везде, где у власти оказались анархисты. Теперь и священники, и просто правоверные католики предпочитают бежать в те области, где обосновались сторонники националистов – санхурхисты.
Анархисты, санхурхисты… – день открытых дверей в зоопарке размером с немаленькую европейскую страну. Теперь, когда генерал Франко Баамонде лишь один из многих вождей контрреволюционного мятежа, и ему не скоро грозит стать каудильо, в Испании, по-видимому, уже не будет франкистов. Изящный ход, обошедшийся лишь в стоимость нескольких телеграмм и пары часов телефонных переговоров. Посоветовать редакции родной газеты как можно скорее взять интервью у некоего опального испанского военачальника, живущего в Лиссабоне, и, по возможности, помочь ему с перелетом на родину на борту надежного, как холландовское ружье, «Быстрого Дракона»[8]. Если какой-то маркиз де Тена[9] смог организовать подобное, то неужели британские джентльмены хуже испанских? И ведь чуть не опоздали, не ведая о переносе сроков начала мятежа…
В результате, генерал Хосе Санхурхо-и-Саканель, маркиз Рифский, благополучно пересек 10 июля 1936 года границу Испанской республики и вступил в командование силами мятежников. Почти сразу после взлета, в небе над Эшторилом[10] у него внезапно закружилась голова и перед глазами возникла картина горящих среди сосен обломков маленького самолета и мертвого тела в парадном мундире командующего Гражданской гвардии. Лишь добрый глоток рома из походной фляжки помог избавиться от наваждения и странной, щемящей боли в груди.
Напряженный шепот, внезапно возникший за спиной, заставил Степана вздрогнуть. Мужской голос говорил по-немецки: «Господь всеблагой, вразуми несчастных, ибо не ведают, что творят. Дай им хоть каплю разума, а нам – хоть толику терпения. Не оставь нас милостью своей, Господи!»
Хотелось обернуться, посмотреть в глаза человеку, не страшащемуся гнева толпы и возносящему молитву среди торжества агрессивного безбожия. Боясь спугнуть говорящего неосторожным жестом или резким движением, Матвеев выждал несколько мгновений и, кажется, опоздал. Теперь за его спиной звучал другой голос – громкий, полный самоуверенности на грани спеси. А может быть, и за гранью. Говорил соотечественник Гринвуда. Ну, или почти соотечественник, поскольку особенности его выговора были скорее характерны для человека, долгое время прожившего в колониях.
«В Индии, – автоматически отметил Степан. – Уж очень по-особенному он это все произносит».
– Стоит отметить, что единственное, в чем можно упрекнуть местных анархистов, так это в отсутствии художественного вкуса, – мужчина говорил так, словно «надиктовывал» текст. – Или в дурновкусии, что, впрочем, одно и то же. Пытаться сжечь то, что гореть не может, вместо того, чтобы все это просто взорвать… Пожалели пару ящиков динамита? Черт меня побери! Я перестаю понимать испанцев!
А вот этого Матвеев стерпеть не смог. Если бы говорил испанец, Степан, скорее всего, оставил бы это циничное заявление без ответа. Что с перегревшихся взять? Но англичанину такое спустить нельзя, а там будь что будет! Есть такие мгновения, о которых, быть может, и сожалеешь потом, и даже ругаешь себя за неосторожность и несдержанность, но в «реальном времени», в момент истины…
Степан начал говорить, все еще стоя спиной к стороннику радикальных методов антиклерикальной пропаганды:
– Похоже, вы никогда их и не понимали, – перебил он «речь» незнакомца. – Один испанец, Антонио Гауди, практически за «спасибо» сорок лет строил – подобно тем зодчим, что возводили собор в Кентербери или в Дрездене – то, чему нельзя найти названия. Другой испанец… – Степан, по мере того, как произносил свою утонченную, но несколько высокопарную и тяжеловесную отповедь постепенно разворачивался в сторону случайного собеседника, наконец, оказавшись с ним лицом к лицу. – Другой испанец, художник Сальвадор Дали, если вам хоть о чем-то говорит это имя… Так вот, синьор Дали сказал как-то, что усилия, предпринятые архитекторами для достройки собора Святого Семейства, не что иное, как предательство дела самого Гауди – автора сего весьма необычного здания. Незаконченную постройку стоило бы оставить в том виде, в каком она пребывала на момент смерти своего создателя. Пусть недостроенный собор торчит гнилым зубом посреди Барселоны. Как напоминание. О чем? Вот об этом господин Дали не успел рассказать. Его отвлекли… Однако если даже человек, которого сложно назвать сторонником старого режима и уж тем более поборником католической церкви, не только не призывает к разрушению Саграда Фамилиа, но и, более того, заботится о сохранности собора, о сохранении его первозданного образа…
Разумеется, Матвеев узнал человека, укорявшего анархистов за то, что они не воспользовались динамитом. Вспомнил, что когда-то читал строки, похожие на услышанное практически слово в слово, да и памятью Гринвуда легко опознал по внешнему облику корреспондента еженедельной британской газеты «Обсервер» Джорджа Оруэлла. Высокий лоб, открытый заче санными назад густыми черными волосами, глубоко посаженные и широко расставленные небольшие глаза, заостренные уши, большой «французский» нос с еле заметной горбинкой над узкой полоской тщательно подстриженных усов и нижняя челюсть, тяжелая как Лондонский мост…
– Блэр. Эрик Блэр, – представился незнакомец, на которого «отповедь» Майкла Гринвуда, по-видимому, произвела кое-какое и не сказать, чтобы слабое, впечатление. – Корреспондент.
– О, так мы с вами коллеги? – как бы удивившись, поднял бровь Степан, сообразивший уже, что общается с Джорджем Оруэлом. – Я Майкл Мэтью Гринвуд.
Он хотел было добавить еще про номерного баронета, но не стал, решив, что столь тонкие проявления британского юмора могут быть не совсем правильно восприняты возможными свидетелями разговора. Особенно из числа заинтересованных лиц, которых здесь должно быть в изрядном количестве.
– И тоже, представьте, зарабатываю на жизнь пером и «Ремингтоном».
По изменившемуся выражению лица Блэра-Оруэлла Матвеев догадался, что пользуется некоторой известностью в самых неожиданных слоях британского общества. А еженедельные гринвудовские колонки в «Дэйли мейл» не проходят незамеченными даже для оппонентов лорда Ротермира, к растущей армии которых, несомненно, принадлежал и его визави.
– Коллега, вашей миной можно сквасить целую цистерну молока! – усмехнулся Матвеев, вполне оценив выражение лица оппонента, все еще не нашедшего, что ответить Гринвуду.
– Признаться, я удивлен, господин Гринвуд, что встретил в революционной Барселоне не просто соотечественника, а репортера одной из самых реакционных британских газет. Впрочем, судя по вашим статьям, человек вы неординарно мыслящий, пусть и стоящий на неприемлемой для меня политической платформе.
– А вы, господин Блэр, кажется, независимый лейборист? – прищурился Матвеев. – Находитесь, так сказать, на полпути от «розового» к «красному»? Впрочем, не люблю ни того, ни другого, – вспышка бешенства миновала, ее сменило холодное презрение и, пожалуй, раздражение на самого себя. – От первого у меня оскомина и изжога, а от второго я боюсь потерять голову… – Степана, что называется, несло, но с другой стороны, и «наступать на горло собственной песне» было ни к чему.
Как источник информации, Оруэлл особого интереса не представлял. Обычный корреспондент обывательской газеты, и даже принадлежность к Независимой лейбористской партии, которая вот-вот грозила объединиться с Компартией Великобритании[11], не добавляла собеседнику особой ценности. Не являлся Степан и поклонником будущего творчества писателя Оруэлла, отнесенного им по здравому размышлению к агитационной разновидности литературы. Перепевы Замятина в «Скотном дворе», некие достоинства которого можно отнести исключительно к искусству переводчика, примитив и прямолинейность «1984» – ничего, что затронуло бы какие-то струны в его душе. Прочел, как и подобает образованному человеку, где-то даже интеллигенту – «самому-то не смешно?» – составил нелестное мнение, и на этом – все.
«Проехали…»
– Вот как? – с усмешкой переспросил Оруэлл.
Ну что ж, никто и не говорил, что мистер Блэр прост. Умен и уверен в себе. Не без этого.
– Именно так, – «улыбнулся» в ответ Степан. – А здесь, в Испании, каждый второй, если не первый, пытается потчевать меня красным и смертельно обижается, когда узнает, что оно мне не очень-то по нраву.
В ответ на «искрометный» экспромт Гринвуда Оруэлл лишь вежливо кивнул.
– Боюсь, коллега, я не способен постичь всю глубину ваших обобщений, ибо не слишком-то разбираюсь в винах. Предпочитаю что-нибудь покрепче. Но, похоже, сейчас в Барселоне с хорошей выпивкой откровенно паршиво. Я, по крайней мере, не смог найти ни одного места, где продают виски или хотя бы джин.
«Старательно играет простака, – решил Степан, по-новому оценивая собеседника. – Рубаха-парень из Уайт-Чепеля…»
– Хотите, я подскажу вам кратчайший путь к источнику хорошей выпивки в этой стране? – спросил Матвеев на голубом глазу и, не дожидаясь ответа, продолжил: – У националистов ее совершенно точно в достатке. Так что для вас дорога одна – в милицию. Рекомендую отряды Объединенной марксистской партии. Там хотя бы порядка больше, чем у анархистов, но решение за вами, разумеется. На вкус и цвет, как говорится…
На этом, собственно, разговор и закончился. Запруженная толпой не слишком широкая улица не лучшее место для политической дискуссии. Для светской беседы, впрочем, тоже. Да и весь эпизод запомнился бы одним лишь «мемориальным» характером – все-таки Оруэлл был, вернее, когда-то должен был стать известным писателем, однако продолжение у этой истории оказалось куда более причудливым и весьма симптоматичным в свете не оставляющих Матвеева размышлений на тему «Цена Победы».
Спустя не так уж много времени в руки Матвеева попала газета…
Некролог. Газета «Обсервер» от 1 ноября 1936 года.
«Редакция газеты с глубоким прискорбием извещает о гибели, в результате несчастного случая, нашего собственного корреспондента в Испанской республике Эрика Артура Блэра, более известного под псевдонимом Джордж Оруэлл…»
Новости. Радио Би-Би-Си. 5 ноября 1936 года.
«…Как рассказывают очевидцы, причиной гибели Эрика Блэра стала ручная граната, брошенная местным подростком в окоп, занятый бойцами ополчения Объединенной марксистской рабочей партии ПОУМ, в котором состоял наш корреспондент. О причинах своего поступка мальчик не смог ничего сказать, кроме того, что очень хотел пошутить…»
Глава 2
Два голоса в тумане
Хроника событий
25 сентября – 17 ноября 1936 года: «Марш на Мадрид» частей Особого экспедиционного корпуса при поддержке подразделений Народной армии. Силы мятежников рассечены на Северную и Юго-западную группировки.
27 сентября 1936 года: Франция, Бельгия, Швейцария и Нидерланды объявляют об отказе от золотого стандарта.
Октябрь 1936 года: в районах Испании, занятых республиканцами, начинается коллективизация сельского хозяйства, национализация промышленности и ликвидируются католические культовые учреждения. Активную помощь в этом местной власти оказывают представители Красной Армии и Коминтерна.
2 октября 1936 года: в Австрии объявлена амнистия в отношении нацистов.
1. Олег Ицкович / Себастиан фон Шаунбург, Испания, 5 октября 1936 года
Август и сентябрь прошли в непрерывных разъездах. И не то, чтобы Гейдрих загонял, или еще что, но логика событий заставляла одинаково «спешить и метаться» и гестаповского разведчика Себастиана фон Шаунбурга, и попаданца Олега Ицковича.
Волка ноги кормят.
Где-то так. Но, так или иначе, мотало его не по-детски и, что называется, от края и до края, если иметь в виду «европейский ТВД». Хотя, если не считать Испании, вся прочая Европа театром военных действий пока не стала, но могла стать. Очень скоро. Даже быстрее, чем кто-нибудь мог подумать. Потому и носился Олег между странами и континентами (ведь Турция – это уже Азия, а Марокко – Африка), потому и спешил. Время уходило слишком быстро, а лавина новых, неизвестных в прошлой истории событий нарастала все больше, и теперь уже абсолютно неизвестно, где и когда – и тем более, как – обрушится она бедой на глупое, ничего не подозревающее человечество.
Два месяца, а показалось – год, хотя временами дни пролетали, словно мгновения. И все-таки скорее год, жизнь или вечность, потому что…
«Потому…»
За два неполных месяца Олег дважды встречался с Вильдой – в Вене и Берлине, один раз и тоже в Берлине – с Таней и Виктором. И ни разу со Степой. Но если без встреч с Матвеевым Олег мог какое-то время обойтись, короткая – в два дня – встреча в Марселе с Ольгой оставила в душе Шаунбурга такую зияющую пустоту, что заполнить ее было просто нечем. Ни работа, ни чувство долга, ни тем более – алкоголь таких «болезней» не лечат. А любовь, как начал догадываться Ицкович, бывает не только сильной и очень сильной, но и хронической, а значит – неизлечимой.
В октябре Гейдрих попросил – именно попросил, а не приказал, что было не вполне обычно даже для их в некотором роде «доверительных» отношений – съездить в Испанию и «осмотреться на месте». Германию начинала тревожить неопределенность военно-политической ситуации в охваченной Гражданской войной стране.
– Съездите туда, Баст! – сказал Гейдрих. – Понюхайте воздух. Мы хотим знать, что там происходит на самом деле. А вашему мнению доверяю не один только я.
«Я вхожу в фавор? – удивился Олег. – Обо мне вспомнили старые товарищи?»
Ну что ж, такое предположение, пожалуй, не лишено логики. Вступив в НСДАП еще в двадцатые годы, Шаунбург успел лично познакомиться со многими из тех, кто ныне превратился в полубогов Третьего рейха. Во всяком случае, с Геббельсом Баст был знаком куда лучше, чем с Гейдрихом, а ведь шеф «Зипо» почти нарочито – на публике – называл Баста своим другом.
«Возможно», – пожал мысленно плечами Олег и отправился в Испанию.
Добираться – хоть и с оказией – пришлось окружным путем: через Италию, Ливию и Испанское Марокко. Так что устал Баст до такой степени, что, сойдя с военно-транспортного самолета на землю, на ногах держался только усилием воли. Однако времени на отдых предусмотрено не было. Организатор поездки – агент Гестапо в Кадисе Эрих Кнопф – сразу же отправил Шаунбурга дальше. В Севилью, в штаб «W», или, вернее, Sonderstab W, во главе которого стоял генерал-лейтенант Гельмут Вилберг, в Саламанку, в ставку генерала Санхурхо[12], и далее везде, включая Мадридский фронт, где действовал генерал Мола, стремившийся компенсировать урон, произведенный рассекающим ударом Экспедиционного корпуса РККА.
В Севилью Олег вернулся накануне ночью. Добрался до отеля, поднялся в номер и не нашел в себе сил даже на то, чтобы принять душ. Выпил залпом полстакана рома, по случаю оказавшегося под рукой, и, не раздеваясь, рухнул в койку. Спал как убитый, без снов и сновидений. Проснулся в одиннадцать часов утра – не ровно, разумеется, а с минутами – полчаса принимал душ и брился, покуривая между делом и приканчивая так некстати подвернувшийся вчерашний ром. Потом вспомнил, что ничего не ел уже почти двадцать часов, но было поздно: в голове поплыло, и пришлось делать над собой немалое усилие, чтобы выбрать из не слишком богатого гардероба чистое белье и приличную рубашку, одеться и спуститься в ресторан. По дороге вниз Олег увидел себя в зеркале, чуть поморщился, оценивая состояние брюк и пиджака, но тут уж ничего не поделаешь, и Баст решил сначала все-таки позавтракать и заодно – впрок – пообедать, а внешним видом, включая посещение «севильского цирюльника», можно заняться и позже. Это же не «где-нибудь», а обычная буржуазная страна, и значит, в ней нормально работают и магазины готовой одежды, и прачечные при отелях.
«Все устроится! – утешил Ицкович Шаунбурга, разнервничавшегося при виде непорядка в своей одежде. – Ну, и что, что штаны мятые? Без штанов было бы еще хуже!»
В ресторане, как ни странно, нашлись знакомые, так что принимать пищу в одиночестве не пришлось. За боковым столиком угощались дарами земли испанской – щедрыми, надо отметить, дарами – два аса только что начавшейся войны: немецкий и испанский. Полковник Эберхард Грабман, судя по последним сообщениям, сбил то ли три, то ли даже четыре республиканских самолета, а капитан Гарсиа Мурато – пока всего лишь один, но тоже ходил в героях.
– Здравствуйте, господин журналист! – по-немецки приветствовал Баста полковник. – Идите к нам, мы с капитаном только начали.
«Вопрос, когда закончите?» – желчно подумал Олег, оценивая стол «братьев пилотов», похожий на натюрморт в стиле любимых и Ицковичем, и Шаунбургом малых голландцев.
– Салют! – ответил Олег на приветствие летчика и изменил направление движения.
Делать нечего, придется составлять компанию.
– Добрый день! – вежливо поздоровался щеголеватый испанский офицер, поднимаясь навстречу Ицковичу.
– Меня зовут Себастиан Шаунбург, – напомнил Олег, оценив выражение тревоги и сожаления, появившееся в глазах пилотов. Помнить имя какого-то немецкого репортера, они, разумеется, не обязаны, так что, как говаривали древние римляне, ad impossibila nemo tenetur… Нельзя заставлять выполнять невозможное!
– О! – ответил с улыбкой немец. – Точно. Фон Шаунбург… Вы ведь баварец? Мы перешли на «ты»?
– Нет, – покачал головой Олег и сел за стол. – Мы не перешли на «ты», но я баварец.
– Очень приятно, – как-то невпопад сказал испанец, возвращаясь на свое место. Похоже, он был уже прилично подшофе.
– Мне тоже, – кивнул Олег.
– Выпьете? – спросил Грабман. Внешне он был типичным пруссаком. Во всяком случае, в воображении Олега, разбавленном памятью Шаунбурга, северные немцы представлялись именно такими.
«А куда я денусь?»
– Выпью.
И понеслось.
У летчиков продолжался пусть и кратковременный, но отпуск, и оба были не против расслабиться, а пьют немцы и испанцы, как выяснилось, одинаково хорошо. Если умеют, разумеется. Но эти двое умели.
– Вчера наши бомбили Гетафе, – сообщил полковник под ветчину и зелень, не уточнив даже, кого имеет в виду: немцев или авиацию националистов.
– Гетафе? – переспросил Олег, прожевав кусок сухого и солоноватого хамона. – Что это? Это место? Где оно?
– Это аэродром красных, – объяснил капитан. Он совсем неплохо владел немецким. Во всяком случае, Олег понимал его без затруднений. – В районе Мадрида.
– И?.. – Олег поднял рюмку салютуя своим сотрапезникам. – Мне будет, о чем написать?
– Мы потеряли два бомбардировщика, – построжел лицом оберст. – Вряд ли в «Эйер Ферлаг» будут рады таким новостям.
– Я не печатаюсь в «Фелькишер беобахтер»[13], – покачал головой Олег.