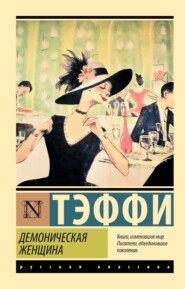По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя летопись
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой.
– Свет погасите, – шепнула она. – Разденьтесь уж как-нибудь впотьмах… А штору, ради Бога, не спускайте.
Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку.
– Так помните про штору. Ради Бога…
Ушла.
Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса – Оленушка.
– У него на этой чудесной шубе на спине дырка… – шепчет она, – и что-то темное вокруг… что-то страшное.
– Спите, Оленушка. Все мы устали и нервничаем.
Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит.
И на рассвете Оленушка говорит во сне жутким громким голосом:
– Я знаю, отчего она воет. У него шуба прострелена и кровь запеклась.
У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя знала…
Утром проснулись поздно. Холодный серый день. Дождь. За окном сараи, амбары, подальше насыпь. Пусто. Ни души.
Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины.
И шепотом:
– Зять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти с фонарем, – донесут. А днем тоже увидят. Придут обыскивать. У нас каждый день обыски.
Сегодня она словоохотливее. Но лицо «молчит». Лицо каменное, точно боится она рассказать лицом больше, чем хочет.
В дверь стучит Гуськин.
– Вы скоро? Здешняя… молодежь уже два раза прибегала.
Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина:
– Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда? – шепотом спрашиваю я.
– Улыбайтесь, ради Бога, улыбайтесь, – шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке, как «L’homme qui rit»[30 - «Человек, который смеется» (фр.).].
– Улыбайтесь, когда разговариваете, может, кто, не дай Бог, подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона сорок верст. Там грабят.
– Кто же грабит?
– Ха! Кто? Они же и грабят. Ну а если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу: мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, ей-богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу.
Мысль была сложная, но явно неутешительная.
– Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали и репетируют. Все репетируют, и все устали.
– А вы не знаете, где сам хозяин?
– Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. А то чего они так боятся? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. Отчего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что, нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикаться стал отчего? Три недели заикается. Так мы не хотим заикаться, мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной.
В столовой двинули стулом.
– Скорей репетировать! – громко закричал Гуськин, отскочив от двери. – Вставайте скорее! Ей-богу, одиннадцать часов, а они спят как из ведра!
Мы с Оленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя… Аверченко, антрепренер и актриса с собачкой приняли на себя беседу с вдохновенными «культуртрегерами». Ходили даже с ними гулять.
– Любопытная история, – рассказывал, вернувшись, Аверченко. – Видите тот разбитый сарай? Рассказывают, что месяца два тому назад здесь большевикам пришлось плохо и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику везти себя. А тот взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился.
– А тот?
– Того не нашли.
– Может быть… это и есть наш хозяин?..
4
Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый.
Мы забились в нашу «дамскую» комнату, туда же пришел и Аверченко. Точно по уговору, никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало… Вспоминали о последних московских днях, об оставленной компании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем ни слова.
Как-то поживает «высокий (ростом) покровитель»? Все ли еще живет сердцем или снова зажил умом, с ударением на «у»?..
Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала я бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием: она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно-лошадиным лицом, сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый лорнет, с отвращением разглядывала половицы. В другой руке деликатно, двумя пальчиками, держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол.
– А вытирать я буду потом, когда мой валансьен[31 - Валансьен – тонкие кружева особого плетения (по названию французского города Валансьенн, где они изготовлялись).] высохнет…
Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины – горький, зеленоватый, всегда сырой…
Аверченко взглянул на часы:
– Ну вот, скоро и вечер. Уж пять часов.
– Кажется, кто-то стукнул в окно, – насторожилась Оленушка.
Под окном Гуськин.
– Госпожа Тэффи! Господин Аверченко! – громко кричит он. – Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-Богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса.
– Да ведь дождь идет!
– Дождь маленький, непременно нужно. Это я вам говорю.
– Свет погасите, – шепнула она. – Разденьтесь уж как-нибудь впотьмах… А штору, ради Бога, не спускайте.
Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку.
– Так помните про штору. Ради Бога…
Ушла.
Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса – Оленушка.
– У него на этой чудесной шубе на спине дырка… – шепчет она, – и что-то темное вокруг… что-то страшное.
– Спите, Оленушка. Все мы устали и нервничаем.
Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит.
И на рассвете Оленушка говорит во сне жутким громким голосом:
– Я знаю, отчего она воет. У него шуба прострелена и кровь запеклась.
У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя знала…
Утром проснулись поздно. Холодный серый день. Дождь. За окном сараи, амбары, подальше насыпь. Пусто. Ни души.
Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины.
И шепотом:
– Зять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти с фонарем, – донесут. А днем тоже увидят. Придут обыскивать. У нас каждый день обыски.
Сегодня она словоохотливее. Но лицо «молчит». Лицо каменное, точно боится она рассказать лицом больше, чем хочет.
В дверь стучит Гуськин.
– Вы скоро? Здешняя… молодежь уже два раза прибегала.
Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина:
– Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда? – шепотом спрашиваю я.
– Улыбайтесь, ради Бога, улыбайтесь, – шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке, как «L’homme qui rit»[30 - «Человек, который смеется» (фр.).].
– Улыбайтесь, когда разговариваете, может, кто, не дай Бог, подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона сорок верст. Там грабят.
– Кто же грабит?
– Ха! Кто? Они же и грабят. Ну а если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу: мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, ей-богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу.
Мысль была сложная, но явно неутешительная.
– Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали и репетируют. Все репетируют, и все устали.
– А вы не знаете, где сам хозяин?
– Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. А то чего они так боятся? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. Отчего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что, нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикаться стал отчего? Три недели заикается. Так мы не хотим заикаться, мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной.
В столовой двинули стулом.
– Скорей репетировать! – громко закричал Гуськин, отскочив от двери. – Вставайте скорее! Ей-богу, одиннадцать часов, а они спят как из ведра!
Мы с Оленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя… Аверченко, антрепренер и актриса с собачкой приняли на себя беседу с вдохновенными «культуртрегерами». Ходили даже с ними гулять.
– Любопытная история, – рассказывал, вернувшись, Аверченко. – Видите тот разбитый сарай? Рассказывают, что месяца два тому назад здесь большевикам пришлось плохо и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику везти себя. А тот взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился.
– А тот?
– Того не нашли.
– Может быть… это и есть наш хозяин?..
4
Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый.
Мы забились в нашу «дамскую» комнату, туда же пришел и Аверченко. Точно по уговору, никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало… Вспоминали о последних московских днях, об оставленной компании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем ни слова.
Как-то поживает «высокий (ростом) покровитель»? Все ли еще живет сердцем или снова зажил умом, с ударением на «у»?..
Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала я бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием: она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно-лошадиным лицом, сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый лорнет, с отвращением разглядывала половицы. В другой руке деликатно, двумя пальчиками, держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол.
– А вытирать я буду потом, когда мой валансьен[31 - Валансьен – тонкие кружева особого плетения (по названию французского города Валансьенн, где они изготовлялись).] высохнет…
Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины – горький, зеленоватый, всегда сырой…
Аверченко взглянул на часы:
– Ну вот, скоро и вечер. Уж пять часов.
– Кажется, кто-то стукнул в окно, – насторожилась Оленушка.
Под окном Гуськин.
– Госпожа Тэффи! Господин Аверченко! – громко кричит он. – Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-Богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса.
– Да ведь дождь идет!
– Дождь маленький, непременно нужно. Это я вам говорю.