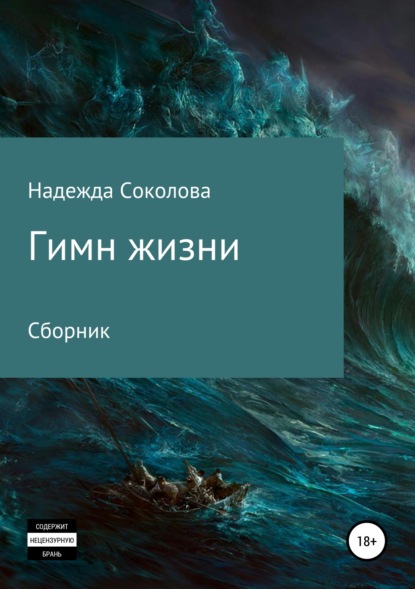По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гимн жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я спешу к подруге милой,
Вновь презрев и страх, и холод.
Да, на улице опасно,
И не раз уже порою
Мне мерещился напрасно
Чей-то нож. То Ночь игрою
То лукавой, то жестокой
Искажает ощущенья.
Ночью путник одинокий
Чувствует, что нет спасенья,
Что вокруг одни громады
Равнодушных белых зданий,
Видит он одни преграды,
Черноту лишь Мирозданья.
Но иду я на свиданье,
Не желая зло предвидеть.
А в душе одно желанье -
Вновь любимую увидеть.
Бунин и «Советы»
Бунин… Его творчество многогранно. Лирические, проникнутые щемящей тоской по так быстро уходящей, как песок сквозь пальцы просочившейся жизни, «Темные аллеи», меланхоличные «Антоновские яблоки», наполненное сожалением о краткости жизни «Легкое дыхание». Но эти произведения у нас на слуху, мы знакомимся с ними с детства, впервые влюбляясь в слог автора со школьной скамьи.
А вот Бунина-публициста знают немногие. И статьи его, откликавшиеся на особо острые вопросы современности, читать нам не предлагают. Возможно, потому что классик, получивший Нобелевскую премию, со всей своей прямотой осуждал тот самый советский строй, из-за которого ему пришлось стать эмигрантом. Осуждал не только из-за поломанной жизни, разлуки с семьей и друзьями, но и из-за пошлости, грубости, низости, «лубочности» – тех самых черт, которые отвратили его от большевиков еще во время жизни в Одессе, перед самой эмиграцией. Именно поэтому он, горячо выступая против нового строя, не желал иметь ничего общего с теми, кто «встал у руля» в его России, в той стране, куда, как он знал, вернуться ему уже нельзя. В одной из своих стате й он пишет: «Мы … пребываем в этом мраке, этом дурмане, дурмане злом, диком и, как всякий дурман, прежде всего переполненном нелепостями, на этот раз нелепостями чудовищными. И дурман этот еще длится, и человек, более или менее не поддавшийся ему, поминутно с ужасом и с изумлением протирает глаза. Кровь продолжает течь реками, – нелепейшая в мировой истории, колоссальная война между русскими, между двумя огромными русскими армиями, одна из которых идет под высоким водительством бывшего газетного корреспондента, еще в полном разгаре».
«Великий дурман» – именно так озаглавит автор свою лекцию, с которой выступит в Одессе. В ней Иван Алексеевич, постоянно общавшийся с народом и видевший не только положительные, но и отрицательные стороны мужицкого характера, приведет многочисленные примеры того, как жесток может быть «народ-богоносец», если позволить ему жить безнаказанно, без страха, как физического, так и морального.
Истово верующий, Бунин во многих своих статьях цитирует Библию, чаще всего вспоминая Иова. Именно этот библейский герой является для Ивана Алексеевича той самой мученической фигурой, чья жизнь, по мнению автора, все больше напоминает жизнь многих эмигрантов, непримиримых последователей Белой идеи. Считая всех, кто погиб в рядах Добровольческой армии, настоящими мучениками, достойными канонизации, Бунин преклоняется перед вождями этого движения и говорит А.И. Деникину на банкете в честь военачальника: «Ваше Высокопревосходительство! Я не в силах выразить перед Вами даже и малейшей доли тех сложных и глубоких чувств, которыми охвачен я в сознании всей великой важности минут нами переживаемых, когда незримо пишутся новые славные страницы русской летописи, на коих уже неизгладимо начертано Ваше славное имя и коим предстоит такая долгая, долгая историческая жизнь. Позвольте мне только земно поклониться Вам ото всего моего сердца, с особой силой ощущающего ныне свою кровную связь с Россией, – сердца, бесконечно исстрадавшегося и в эту минуту бесконечно счастливого».
И потом, уже в эмиграции, осознавая, что Белое движение не в состоянии вернуть разрушенный уклад и победить большевиков, Бунин с жадностью следит за все, что происходит на его бывшей родине, страдая вместе с ней, мучаясь из-за неспособности помочь всем умирающим в боях, замерзающим в морозы или гибнущим от холода.
Писатель с горечью замечает: «Теперь передо мною петербургская «Правда» за июль и август нынешнего года… Все то же, буквально все то же, что с тоской, болью, отвращением читал в восемнадцатом году в Москве, а в девятнадцатом в Одессе… Все тот же осточертевший жаргон, все та же яростная долбня трех-четырех мыслишек, все та же заборная грубость, все та же напыщенность самого низшего разбора, самый «высокий стиль» рядом с самой площадной бранью, все те же вопли, восклицательные знаки, аншлаги аршинными буквами, все та же превосходящая всякую меру наглость в лживости, которой пропитано буквально каждое слово, каждый призыв, каждый «лозунг», каждое сообщение, все та же разнузданная до тошноты хвастливость, все та же видимость бешеной деятельности, все та же страшная в своей маниакальности и в своей неукротимой энергии обезьяна, остервенело, с пеной у рта катающая чурбан – и все та же гнусная и жуткая действительность, явствующая в каждой газетной строке и чуть не в каждом заголовке!» Эстет, любящий и ценящий русский язык, Иван Алексеевич не может смириться с новой орфографией, с упрощенным, «нелитературным», по его мнению, языком, которым пишутся все современные ему произведения в советской России. С сарказмом замечает Бунин: «…«могучий и ядреный», самый что ни на есть русский рассказ Всеволода Иванова, под заглавием «Орленое время» и начинается так: «В которых пустынях и по сейчас идет еще орленая жизнь. Жизнь эта как отвороченный пласт земли на неурочно раннее гнездо. Мечись потом птица, вой неслышным воем! Деревня есть Колудино на реке Печоре. Ломит та река дерево и камень нагордо. Молочистые туманы прячут ее в белосоватые полы своих одежд. А вот на четырнадцать волостей прославился Ефрем Шигона шубным своим клеем!..»». Для автора, любящего и ценящего русскую речь, тонко чувствующего каждое слово, подобный текст выглядит пошлостью и безвкусицей. И Бунин искренне не понимает, что может здесь привлекать читателей и почему надо широко рекламировать жуткое, по его мнению, произведение.
Именно при чтении публицистического наследия любого автора можно понять и прочувствовать его душу, осознать тот смысл, который он вкладывал в свою жизнь. И мне хочется верить, что публицистика Бунина, так незаслуженно забытая ранее, теперь станет на одну ступень с его мастерски написанными художественными произведениями. И Бунину-публицисту мы воздадим такую же хвалу, как и Бунину-писателю.
Грешница
В чем вина ее? Объясните мне.
В том, что Господа не послушалась?
Что года пролетели, как в страшном сне,
И всю жизнь среди грешников мучилась?
Что желала прожить отведенный ей срок
Там, где жизнь началась ее горькая?
Что судьба была тяжкой, как рабский оброк,
И всегда поднималась лишь с зорькою?
Так за что ее превратили во столп?
За какие грехи наказание?
Для чего выставлять на осмотр для толп?
Ведь естественно было желание.
Ведь хотела она лишь на дом свой взглянуть,
Попрощаться с родимой Отчизною…
Но лишь бросила взгляд, не успела моргнуть,
И оделась соленою ризою.
И стоять ей века за ошибку свою,
Без движения и без дыхания,
В этом голом, далеком, пустынном краю,
В наказание за ослушание.
Веник
Все чаще мне начинает казаться, что жизнь человеческая похожа на веник: когда ты покупаешь его в магазине, он нов и «полон сил». На него приятно смотреть, он может выполнять свои обязанности практически безупречно, и тебе не нужно ставить его в самый дальний угол, чтобы не смущать свой взор.
Проходит время. Веник уже не настолько «молод», как раньше, его прутики начинают выбиваться из общей массы и иногда даже падают на пол. Чем чаще ты его используешь, тем непрезентабельней становится его вид, он растрепывается все больше, и ты стараешься поменьше смотреть в его сторону, не хочешь портить себе настроение, смотря на него. Все чаще у тебя появляются мысли о необходимости покупки нового «инструмента».