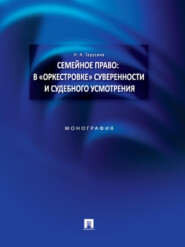По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гендерное равенство в семье и труде: заметки юристов. Монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. В. И. Бошко также полагал, что общественно-политическое значение указа трудно переоценить: изданный «в сложной обстановке войны, он с новой силой и предельной ясностью выразил исключительную заботу Советского государства об укреплении семьи, о детях и матерях…»
.
Исследуя семейное законодательство периода войны, П. П. Полянский (работа 1996 г.) подчеркивает позитивизм решения о «дезавуировании» фактических браков: основной принцип, «заложенный этим Указом, – признание государством только зарегистрированного брака – является и теперь основополагающим для отечественного семейного права»; эффективное укрепление семьи могло осуществляться лишь при условии выявления и учета всех брачных связей, фактические браки мешали государству и потому, что наносили материальный ущерб и законной семье: имущество распылялось вследствие судебного решения, вызванного легкомысленным поведением главы семьи; доказывание внебрачного отцовства осуществлялось с легкостью
.
Весьма спорное суждение: 1) интересы внебрачного ребенка и его матери игнорируются (они что – правонарушители?..); 2) поведение главы (!) «законного» семейства отечески именуются «легкомысленным»; 3) трудности установления истины по делу перекладываются с «могучих плеч» третьей власти, правосудия, на хрупкие плечи женщины, подарившей обществу новую жизнь…
Кроме осуждения незарегистрированных союзов (их участников, кстати «любезно» пригласили к регистрации, хотя многие из них воевали на фронтах…), была подвергнута «вивисекции» и свобода развода: введена исключительная судебная процедура в два этапа (примирение в районном народном суде и решение по существу – в вышестоящем) – с предварительной публикацией в местной газете о возбуждении дела, повышена госпошлина, введена публичность процедуры.
Наконец, истинно «драконовской мерой» явились положения указа о внебрачных детях (собственно, именно они прежде всего и вернули наше семейное законодательство вспять): не допускались ни добровольное признание отцовства, ни отыскание его в судебном порядке, в графе «отец» ставился прочерк (позднее, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1945 г. было разрешено признание отцом своего внебрачного ребенка при условии вступления в брак с его матерью).
Кстати, примерно такие законы В. И. Ленин считал «неслыханно-подлыми, отвратительно-грязными, зверски-грубыми»
. Наоборот, о первых, прогрессивных, декретах он писал: «Мы не оставили в подлинном смысле слова камня на камне из тех подлых законов о неравноправии женщины, о стеснениях развода, о гнусных формальностях, его обставляющих, о непризнании внебрачных детей, о розыске их отцов и т. п… Но чем чище очистили мы почву от хлама старых, буржуазных, законов и учреждений, тем яснее стало для нас, что это только очистка земли для постройки, но еще не самая постройка»
. (Конечно: следующая «постройка» оказалась куда как «краше»…)
«Матери-одиночке» предоставлялся «богатый» выбор: либо поднимать ребенка самой с помощью мизерного государственного пособия, либо сдать его в детский дом на «полное гособеспечение».
«Не состоящая в браке мать в советских условиях – полноправная гражданка, – комментировал данные нормы Г. М. Свердлов, – … государство предоставляет ей материальную помощь… Закон специально предусматривает привлечение к ответственности всякого, кто попытается… унизить ее достоинство… То же самое следует сказать и о рожденном ею ребенке…то, что он приобретает права только по материнской линии, ни в коей мере не бросает тени на ребенка»
. (Убедительно, что и говорить…)
Анализируя указ в этой его части, Д. М. Чечот попытался найти оправдание в экстраординарности ситуации: опустошительные войны всегда влекли чрезвычайные меры, в том числе по увеличению рождаемости. Автор приводит известный пример Плутарха из римской истории: после одной из войн, в которой пало очень много римских граждан, было решено холостяков женить в принудительном порядке на вдовах, чтобы римский род не оскудел… Можно предположить, – продолжал Д. М. Чечот свой комментарий Указа, – законодатель стремился поднять уровень рождаемости поощрением мужчин «вступать в общение с женщинами, не опасаясь возникновения алиментного обязательства в отношении ребенка»
. (Кстати, автор совершенно справедливо сомневается в том, что последовавшее некоторое увеличение рождаемости находилось в существенной причинной связи с таким «освобождением»: как отмечает М. Босанац, известный исследователь проблем внебрачной семьи, в истории человечества война всегда исполняет роль «вершителя демографических коррективов» – с ее «тыловыми» и «фронтовыми» романами (устойчивыми и кратковременными внебрачными связями)
).
Через 35 лет после принятия данного указа известный социолог семьи А. Г. Харчев, обобщая тенденции семейного законодательства того периода и отвечая на критику последнего западными социологами, писал, что никакого отрицания позиций 1926 г. Указом 1944 г. не произошло: в переходный период «на первом месте стояли задачи преодоления экономического и нравственно-правового неравноправия женщин в семье и обществе, а к 1944 г. эти задачи были в основном уже решены»; а самое главное, «наряду с мерами облегчающими и поощряющими деятельность женщин в семье, и особенно материнство, законодательство 1944 г. предусматривало и ряд мер к тому, чтобы эта деятельность не мешала производственной и общественной работе женщин (строительство женских консультаций, детских садов, яслей и т. д.)»; оно было «направлено не против участия женщин в социальной жизни, а против противопоставления социальной и семейной жизни»
. (И ни слова о безответственности мужчин! Между тем, последним (то есть первым, конечно) была предоставлена значительная свобода сексуальной жизни
(лишь бы не разводились – за это их осуждал партком, профком и суд), им не грозило установление отцовства, алиментные обязательства и порицание за распущенность.)
Эта «про-мужская» политика загоняла женщину в тупик
: доступ к медицинскому аборту закрыт, отца у ребенка не будет (если только он не «пойдет на брак» или не усыновит собственного ребенка), меры государственной помощи не адекватны, а «сдача» ребенка в детдом для нормальной женщины – жизненная драма.
Перед кодификацией 1968–1969 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 г. «О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака»
были отменены правила о публикации в газете и двустадийность бракоразводного процесса. Следует заметить, что за 1 год данной либерализации разводимость резко возросла. Так, в 1940 г. на 1000 чел. населения мы имели 1,1 развода, в 1950 г. (через 5 лет после принятия Указа 1944 г.) – 0,4, в 1960 г. – 1,3 (то есть больше, чем до Указа), в 1966 г. – 2,8. Резкий скачок 1966 г. объяснялся прежде всего тем, что были расторгнуты браки, фактически распавшиеся ранее
, что еще раз подтверждает аксиому о невозможности достижения стабильного эффекта семейно-правовыми регуляторами жесткого типа. Эта тенденция продолжалась еще несколько лет. Затем разводимость несколько снизилась, но в конце 70-х снова начала расти. Однако причины были уже другие: разводы перестали осуждаться обществом, рос уровень жизни, развивалось самосознание женщин (в 65–70 % случаев они были инициаторами прекращения брака
; «хрущевская оттепель» дала новый импульс и взаимоотношениям мужчины и женщины).
Третий систематизированный акт – Кодекс РСФСР о браке и семье 1969 г. Он явился конкретизацией для России Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. и был средоточием императивных и диспозитивных начал регуляции в общем прогрессивном контексте – с некоторым, впрочем, уклоном в обеспечение публичных интересов. К числу его демократических начал следует отнести: упрощение бракоразводной процедуры (возврат к альтернативе – загс или суд), расширение согласительной сферы (соглашение об алиментах, о месте проживания ребенка и порядке общения с ним второго родителя, разделе имущества), защита социально слабого при разделе общесупружеской собственности (жизненно важных интересов детей и одного из супругов), равный статус детей, возможность добровольного признания отцовства и судебного его оспаривания или установления.
В то же время норма ст. 48 КоБС была очевидным компромиссом. Правилом ч. 1 ст. 47 объявлялось, что права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении, ч. 1 ст. 48 – в том числе путем установления оного (внебрачного отцовства) в судебном порядке, а ч. 2 ограничивала познавательную деятельность суда выявлением четырех альтернативных обстоятельств, способных подтвердить искомый факт происхождения (совместное проживание и ведение хозяйства, участие в содержании и/или воспитании, признание ребенка своим). Такое ограничение объяснялось «маскулинной» частью цивилистов «нежеланием законодателя поощрять легкомысленную женщину» (вспомним, что ранее «легкомыслие» мужчины извинялось охотно, не говоря уже о том, что в «любви» участвуют двое). Так, В. С. Тадевосян упрекал В. П. Никитину, жестко критиковавшую указанные положения как не обеспечивающие защиту интересов женщины-матери и ребенка, подчеркивая, что нормы кодекса и взгляды ученых (В. А. Рясенцева, Ю. А. Королева, К. К. Червякова, В. С. Тадевосяна), кои и были положены в основу первых, вполне справедливы – случайные легкомысленные связи не должны влечь за собой никаких правовых последствий
. (Добавим: для мужчины.) Причем, подобные аргументы звучали даже в парламенте страны уже в перестроечный период, когда в 1990–1991 гг. обсуждались проекты изменений в семейное законодательство, – из уст известных российских цивилистов (правильно – мужчин – и отнюдь не из партии В. В. Жириновского).
Кодекс 1969 г., дополненный в конце 80-х-начале 90-х годов, «продержался» до 1995 г. После принятия части I ГК РФ (1994 г.), в которой были отражены результаты всестороннего реформирования российского общества, назрела острая необходимость его замены более либеральным, современным, «рыночным» законом.
2.2. ГЕНДЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Брак – слишком
совершенное состояние для
несовершенного человека.
Н. Шамфор
В 90-е годы в качестве наиболее активных «агентов влияния» на содержание семейного законодательства и практики его применения выступили договор, национально-региональный фактор, репродуктивные технологии и (в гораздо меньшей степени) тендер. В реальном бытии закона эта «квадриада» действовала единым «фронтом», поэтому аналитика тендерной составляющей последнего кодекса, СК РФ 1995 г., неизбежно осуществляется на основе взаимодействия указанных факторов.
На первый взгляд, действующее семейное законодательство по преимуществу гендерно нейтрально: декларированы равенство прав мужчины и женщины в браке, родительстве, правоотношениях по материальному содержанию, усыновлению, опеке, приемной семье (ст. 1, 31, 61 СК РФ и др.). Однако анализ конкретных норм, прецедента (если квалифицировать таким образом акты Верховного Суда РФ) и региональных судебных решений данное предположение подтверждает далеко не всегда.
* * *
Институт брака. Супруги объявляются равными партнерами, свободными в выборе брачной фамилии, рода занятий, профессии, места жительства, режима отношений собственности (законного или договорного), иных вопросов семьи, основанной на браке.
При заключении брака формальных тендерных различий почти нет: возраст и другие условия законности союза одинаковы для мужчин и женщин (ст. 10, 12–15 СК РФ).
Так, на первый взгляд, не подтверждается тенденция ряда стран дифференцировать брачный возраст. Например, в Польше суд может снизить женщине брачный возраст до 16 лет при общем правиле в 18 лет, во Франции для «прекрасной половины человечества» установлен возраст в 15 лет, Швейцарии – соответственно 20 и 18 лет, Японии – 16 и 18 лет и т. д.
.
Нормой ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ предусматривается право субъектов РФ своими региональными законами снижать брачный возраст ниже предельного в 16 лет. Причем, если в проекте СК граница все же устанавливалась (14 лет), то в легитимном варианте она исчезла. (Разумеется, 14-летний барьер и в этом случае должен соблюдаться, так как именно он отвечает основным началам цивилистики: 14 лет – возраст частичной дееспособности, права на самостоятельную судебную защиту своих субъективных семейных прав и интересов и т. д.)
.
Многие субъекты РФ воспользовались этим правом (14 лет, 15 лет, без ограничения). В качестве наиболее часто встречающегося основания для применения исключения о возрасте фигурирует беременность невесты. Не секрет, что последнее всегда являлось ключевым аргументом снижения брачного возраста и на основании федеральных законов XX века,
включая действующий. Следовательно, либо частным образом, либо в латентной форме (на уровне административной практики) некоторые тендерные предпочтения существуют, что, впрочем, отвечает реалиям жизни.
Небезынтересно было бы исследовать подоплеку робкой позиции законодателя относительно фактов сокрытия ВИЧ-инфекций и вензаболеваний как оснований признания брака недействительным (п. 3 ст. 15 СК РФ). Медицинское обследование – дело добровольное… Однако не во всех случаях, – например, усыновители должны отвечать определенным медицинским критериям… Вступать же в брак и, как возможное следствие, становиться биологическими родителями могут носители любых заболеваний. (В США в каждом штате департамент здравоохранения утверждает список заболеваний, информацию о которых лицо, вступающее в брак, обязано включить в медицинский сертификат и информировать будущего партнера)
. Эффективность нашего правила сомнительна: признавать брак недействительным «задним числом», когда ситуация уже вполне драматична… Между тем, с достаточной долей вероятности можно предположить, что носителями вензаболеваний, в силу качеств «охотника», во многих случаях бывают мужчины. Последствия же заболевания тяжелей для женщины, так как она может лишиться способности материнства или же родить больного ребенка. Думается, что формально равное и декларативное правило о взаимном ознакомлении жениха и невесты о состоянии здоровья имеет скорее тендерную патриархическую подоплеку, нежели соответствует соображениям гуманизма и неприкосновенности личности (принуждает же закон учителей «проходить» флюорографию, а кандидатов в судьи, работников сферы питания, водителей и т. п. – комплексное медицинское обследование).
Одним из традиционных требований является соблюдение принципа единобрачия, или моногамии. В последние годы он неоднократно «штурмовался» законодательной или исполнительной властью ряда субъектов Федерации – национальных республик (попытка легализации полигамии в Республике Ингушетия, Чечне). Так, постановлением № 32 от 11 июля 1999 г. администрации г. Урус-Мартан «О некоторых мерах по приведению в соответствие с нормами Шариата супружеских отношений» рекомендовано «пересмотреть свой жизненный уклад и изыскать возможность для заведения от двух до четырех супруг». Не стихают споры по данному вопросу в СМИ, а иногда проникают и в парламент. При этом известно, что в практике ряда «национальных» регионов полигамия встречается и не осуждается. Предпринимаются также попытки узаконить традицию калыма (выкупа за невесту). Руководство современной Чечни ратует за «спецодежду» женщин (платки, юбки определенной длины и т. п.)…
С одной стороны, Россия – светское государство, присоединившееся к международно-правовым документам о моногамном браке. С другой стороны, она – не вполне европейская страна, в ее территориальных, демографических и национально-культурных «композициях» много восточного. (В Российской империи в виде исключения допускались и многоженство для магометан, и полиандрия – соединение нескольких мужчин с одной женщиной)
. Придется ли феминизму и «европеизму» отступить в угоду традициям соответствующих национальных регионов – покажет ближняя история. На данном этапе и на данный вопрос мы имеем пока категорически отрицательный ответ.