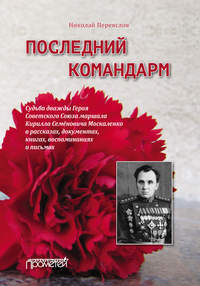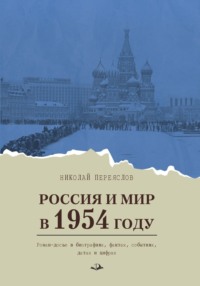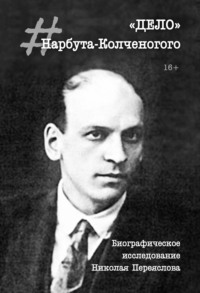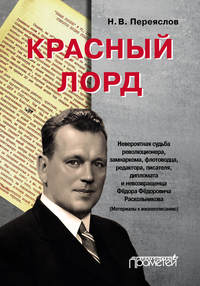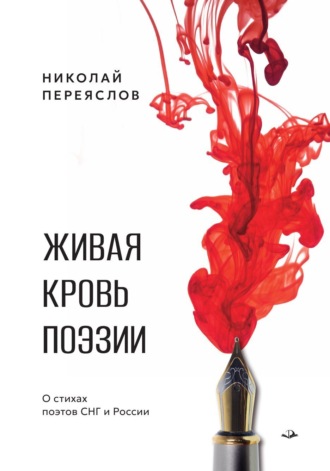
Живая кровь поэзии. О стихах поэтов СНГ и России
Сравнение сегодняшних образцов этого жанра с вышедшими из-под пера Ибн Сины или Хайяма почти неизбежно оказывается в пользу поэтов минувших веков, умевших на очень незначительном пространстве поэтического текста создавать довольно объёмные мировоззренческие картины и высказывать глубокие философские идеи.
Однако представленные в книге Мухаммата Мирзы рубаи достойно выдерживают сравнение со своими «эталонными» средневековыми собратьями и с полным основанием дают их автору право быть причисленным к продолжателям хайямовской поэтической традиции.
Главное достоинство поэзии Мухаммата Мирзы – это умение избежать плоскостного, одномерного изображения, его способность не просто выткать своим стихотворением словесный «ковёр» с остроумным сюжетом, но и суметь дать читателю увидеть внутренним взором тот потаённый смысловой узор, что как бы сам собой создаётся с тыльной стороны поэтического «ковра» узелками сплетающихся между собой сюжетных, образных и философских нитей.
Лучшие рубаи Мухаммата Мирзы – это в высшей степени органичный сплав социальности, философичности, лиризма и остроумия. Столкновение поступательного, логически мотивированного развития мысли с непредсказуемо парадоксальным финалом четверостишия позволяет поэту при помощи всего четырёх строчек создать почти настоящую романную глубину, показав читателю то, о чём в стихотворении, на первый взгляд, как бы и не говорится – например, неконструктивную и пустопорожнюю деятельность некоего общественного деятеля или хозяйственного руководителя, зримо проступающую за строками следующего четверостишия:
Это счастье твоё, что с покорностью глупых овецтебе люди внимают и даже кричат: «Молодец!»Говорят о тебе: «Он такой – лишь один в целом свете…» —и тайком про себя добавляют: «…осёл и глупец!»Как видим, ничего конкретного о профессиональной деятельности и личных качествах главного «героя» стихотворения напрямую вроде бы и не сказано, а, между тем, его никчемная личность и дутый авторитет раскрываются с поразительной отчётливостью.
Удивительно ёмкий лирический портрет другого персонажа удалось создать поэту и в четверостишии о несчастном влюблённом, переживающим полосу тяжёлых жизненных неудач, но при этом не только не утратившим в себе умение любить и согревать этой любовью свою собственную душу, но и сохраняющим способность отдавать накопленное в его сердце тепло той, кого он так искренне любит:
Ну за что на него ополчилось всё страшное зло,что на этой планете исхода себе не нашло?Он от холода, бедный, в нетопленой хижине мёрзнет…Но для милой на сердце – всегда сберегает тепло!3Наряду с такими стихами-шкатулками с «потайным дном», поражающими читателя неожиданно возникающими в последних строках оригинальными и запоминающимися выводами, есть в книге Мухаммата Мирзы одно простое на вид четверостишие, которое, казалось бы, построено абсолютно без всякой опоры на столь характерную для его творчества игру в парадоксальность и представляет собой содержательно и философски одномерную картинку, по сути – мимолётно сделанный коллективный портрет некой человеческой общности, проживающей на другом берегу реки и принципиальным образом отличающейся от той, которая окружает автора на этом берегу (хотя именно о тех, кто находится на этом берегу, в стихотворении как раз ничего и не сказано):
За той рекой, за той рекой —народ какой-то не такой:там вам за так дают верблюдаи до-о-о-олго машут вслед рукой…Казалось бы, автор ни слова не говорит о том народе, что проживает рядом с ним на этом берегу реки, однако уже из одного только беглого упоминания о том, что на противоположном берегу – «народ какой-то не такой» (т. е. сильно отличающийся от здешнего), можно сделать вывод о том, что на этом-то берегу вам верблюда «за так» не получить ни при какой погоде, разве что за большущие деньги, и уж тем более не дождаться от окружающих проявления при расставании таких сентиментальных чувств, какие являются в ходу там, за рекой, – скажем, пожелания вам добра или счастливого пути… Словом – того, что было свойственно людям желать друг другу, когда наша страна воспринималась её гражданами как одна большая, одинаково доброжелательная ко всем своим детям, многонациональная семья.
(Образ реки будет довольно часто возникать в поэзии Мухам-мата Мирзы, выступая в качестве символа некой условной границы, способной в равной мере как разделять собой берега с народами и эпохами, так и сближать их – в зависимости от того, какую «программу» нравственного поведения задаём мы сами.)
4Собственно, мы все сегодня оказались на одном берегу с поэтом, отделённые бурной рекой истории и времени от нашей общей, взрастившей и защитившей нас во время войны от врага, Отчизны.
За той, неостановимо убегающей вдаль рекой перемен остались наши славные предки, наши великие богатыри и пророки, наши герои и праведники, наши пахари, мудрецы и поэты, которые по крупице собирали и накапливали для нас высокий нравственный опыт, глубокую жизненную мудрость и ёмкую поэтическую образность.
За той условной рекой, разделившей своим руслом на изолированные участки единое некогда поле нашей отечественной культуры, оказалось сегодня для большинства жителей России и творчество писателей национальных республик, произведения которых последние годы почти не переводятся на русский язык, оставаясь неизвестными широкому общероссийскому читателю.
За той клокочущей рекой нахлынувшего на страну непонимания и раздора виднеются манящие и притягивающие нас луга, где всех ожидают любящие люди, где мы нужны и близки друг другу, а наши культуры связаны тесным и взаимообогащающим сотрудничеством. Там – наше место и наше завтрашнее будущее. Туда зовёт нас душа, но не пускает разлившаяся в половодье река:
За широкой рекой – берег с ивами дивно красив,там гуляют влюблённые, к ним на плотах переплыв.Но когда половодье – река разливается бурнои уносит плоты от затопленных водами ив…5Одной из самых отличительных особенностей поэтики Мухам-мата Мирзы является неразрывная сроднённость его стихов с татарским фольклором, выражающаяся в густой насыщенности каждого из написанных им четверостиший отзвуками и образами народных пословиц и поговорок. Некоторые рубаи кажутся буквально смонтированными из их частей, как сложные технические конструкции монтируются из отдельных деталей, что придаёт им дополнительную смысловую глубину, делает притчево яркими и философски многослойными. Однако эта характерная для самого автора особенность, придающая дополнительный художественный колорит его стихам, является главной трудностью для переводчиков его поэзии, так как далеко не все пословицы и поговорки татарского народа имеют свои эквивалентные варианты в русском языке. Так, например, если образы «змеиного мяса» и «птичьего молока» одинаково понятны русскому и татарскому читателю и являются для них символами чрезмерной роскоши, то бытующее в татарском народе наставление ребёнку не играть с огнём, чтобы не мочиться в штаны (видимо, от страха перед вырвавшимся из подчинения пламенем) в русском фольклоре своего отражения не находит, и потому не может быть переведено на русский язык в своём классическом виде.
Выбор альтернативы между буквальной точностью перевода и созданием равноценной в поэтическом смысле русскоязычной версии стихотворения стоит перед каждым переводчиком иностранной поэзии, и особенно актуальна эта проблема для переводчиков восточной поэзии, характеризующейся предельно утончённой образностью, философской глубиной и отточенностью смысловых формулировок. Выбирая вариант буквального «калькирования» текста, переводчик соблюдает протокольную идентичность своего перевода оригиналу, но утрачивает поэтическую красоту и художественность, а идя на зов красоты и художественности, рискует отступить от вложенной в оригинал ёмкости поэтических выражений.
Лично я, работая над поэтическими переводами, вижу перед собой в качестве первостепенной одну задачу – сделать так, чтобы переводимый мною поэт максимально звонко прозвучал на русском языке, пленил своим творчеством русскоязычного читателя, стал для него открытием и полюбился не меньше, чем любимые русские поэты. Исходя из этого, мне приходилось иной раз жертвовать формальной точностью перевода в пользу сохранения художественной ценности произведения, допуская, к примеру, утрату в стихах Мухаммата Мирзы характерной для него фольклорности, но передавая присущие его творчеству социальную остроту, философичность, лиризм, остроумие и стремление к предельному лаконизму и афористичности.
Конечно же, мне хотелось, чтобы поэзия Мухаммата Мирзы прозвучала в моих переводах на русский с максимальной полнотой и соответствием оригиналу, но сильнее всего мне хотелось, чтобы автора в России услышали, поняли, приняли и искренне полюбили…
6Настоящая поэзия – всегда! – явление в высшей степени интернациональное, сохраняющее свою социальную, образную, этическую, философскую и культурную значимость при переводе на языки любого из народов мира. На какие бы темы ни писали великие поэты прошлого и их сегодняшние последователи, подлинная поэзия уже самим своим высоким духом, красотой художественных образов и философским проникновением в суть вещей работает на создание единой общечеловеческой культуры, понятных и близких всем ценностей и соединяющих разные народы образов. И блистательно сработанные рубаи Мухаммата Мирзы, скреплённые многовековыми традициями поэзии Востока, как надёжные доски подвесного моста повисают над бурно ревущими водами нашего века, зовя нас перейти разделяющую народы и культуры реку и шагнуть в своё завтра – на тот берег, где миром правит не политика, а поэзия, где царит не раздор, а задор, и где кумиром считают не хама, а Хайяма.
Вот такую удивительную силу имеют эти короткие, по-особому срифмованные четверостишия-рубаи, если они написаны настоящим, тонко чувствующим жизнь и слово, поэтом. Хотя на вид – всё это кажется так удивительно просто…
Слово настоящего поэта
Размышления над книгой М. Закирова «Родной дом»
(Уфа: «Китап», 2010)
Поэзия – это не игра и не развлечение, иначе бы поэтов не убивали на дуэлях и не ссылали на каторгу. Поэзия наполняет мир подлинной красотой и гармонией, делает людей чище, лучше, смелее, и люди вдруг видят, что они не враги друг другу, а братья по духу, и что отравляют этот мир и натравливают их друг на друга некие циники и лицемеры из числа тех, которые не любят и не понимают поэзию. Это они говорят, что стихи ещё никому не помогли стать богаче, а стало быть, их не стоит ни читать, ни издавать. (Не такие ли циники запрещали когда-то Батыраю петь его песни, забирая за каждую новую его песню живность из его стада?..) А если стихи заслуживают права на жизнь, говорят они, то только такие, мол, как у Бродского – чтоб никакой политики, никакой социальности, а один только голый синтаксис.
Но человеческое сердце не привыкло сопереживать синтаксису как таковому, оно отзывается на живые человеческие чувства, на боль и страдания, любовь и горе, на наличие (или отсутствие) у автора совести и человечности! Бродский интересен читателям только тем, чем он отличается от тысяч других поэтов, но эти тысячи могут быть интересны читателю только тем, чем они отличаются от Бродского. Тысячи Бродских – это катастрофа для любой национальной культуры! Как, наверное, и тысяча Пушкиных. Потому что поэзия – это, прежде всего, свой собственный путь.
Вот уже пятнадцать лет обозревая литературные процессы в российской глубинке и национальных республиках, я не мог не заметить того, что отличает эти процессы от развития литературы в Москве и центральных регионах России. А именно. Если литература российских столиц, в силу их более тесных контактов с культурой Запада и более сильным влиянием на столичных писателей законов книжного рынка, акцентирована, главным образом, на поисках новых литературных форм и обновлении художественных средств, то литература российской глубинки и национальных республик говорит, в первую очередь, о проблемах реальной жизни человека, о том, что действительно близко нашим современникам, и о чём у людей сегодня болит душа. Новая художественная форма – это прекрасно, но если она не несёт в себе глубоко народного содержания, то эта форма будет таким же точно обманом, как заполонившая наши прилавки соевая колбаса – красивая на вид, но совершенно бесполезная и ненужная организму.
Эти мои наблюдения подтвердила и книга стихов башкирского поэта Мухамата Закирова «Родной дом», вышедшая в издательстве «Китап» с вступительным словом лауреата премии имени Салавата Юлаева Хасана Назара, который в свое время давал автору рекомендацию для вступления в Союз писателей. Эта книга являет собой своеобразный поэтический итог всей (надеюсь, только на данный момент) творческой жизни поэта. Это его первый солидный сборник, изданный к 60-летию и включающий в себя все лучшее, что прошло испытание временем и читателями.
Я читал эту книгу по подстрочникам, но и они не смогли снизить того поэтического и гражданского накала, который заключён в стихотворениях автора. Более того – стихи Закирова настолько активно прорывались ко мне сквозь плоть своего родного языка, что я буквально во время чтения начал переводить некоторые из них на русский язык, так что все дальнейшие цитаты приводятся здесь в моём переводе.
Надо сказать, что путь автора в поэзию был не простым и не быстрым. Были на нём и потеря единственного родного человека – матери, и служба в танковых войсках, и заочная учеба на филологическом факультете БГУ, и беспокойная журналистская работа – сначала в районной, а потом в республиканской прессе, на радио и телевидении, были также и бытовые неудобства, бездомность… И хотя он начал писать стихи ещё в 4-м классе, его поэтический дар открылся в полную силу только к 30-ти годам, когда он навсегда приехал в литературную столицу Башкортостана – Уфу, куда стремился всю свою жизнь. Наверное, поэтому каждое стихотворение поэта видится выстраданным, и ни одна строка не фальшивит.
О чем бы ни писал Мухамат Закиров, ему чужд легковесный набор рифмованных строк. По его собственному признанию, ему близко высказывание известного русского поэта Анатолия Жигулина, который еще в юности прошел через сталинские лагеря и однажды сказал, что писать надо честно, как перед расстрелом, и жизнь сама оправдает честные слова…
Поэт бывает наивен, как ребенок, и одновременно мудр, как аксакал. Он восхищается светлыми капельками долгожданного дождя и одновременно размышляет о прошлом и будущем, о тайнах Вселенной и судьбах целых поколений, и даже всего мира. В этом аспекте понятие «Родного дома», с которым связано все самое сокровенное для человека, приобретает глобальный масштаб, суть и смысл жизни. А что, если мы вдруг потеряем родной дом, нашу прекрасную Землю в ядерном апокалипсисе?
Книга разделена на четыре части. В первой – более 70 стихотворений о родном крае, его людях, о матери. Программным стихотворением этого цикла можно назвать «В трудный час не обманет», в котором поэт вспоминает об одной странной привычке своей матери. На какое бы торжество или пиршество ни пригласили её к столу соседи, она первым делом доставала и клала на стол свой хлеб. «Ну зачем ты! – удивлялись гостеприимные соседи. – Ведь не голодное время, есть у нас хлеб, вот он». Но мать была непреклонна. И поэт, говоря сегодня о своём творчестве, тоже вслед за ней пишет: на общий стол ставлю свои стихи, свой хлеб. Может быть, когда жизнь улыбается, они и не так уж будут заметны, необходимы, но в трудную минуту им не будет цены.
В стихотворении «В родном краю идёт осенний дождь» даны образы родных полей и давно умершей матери, которые в неразрывном и печальном единстве соединяются в воображении поэта:
Осенний дождь стекает на поля,В природе длится умиранья драма.Излишней влагой хлюпает земля,Словно под нею – тихо плачет мама…Поэтический мир, а тем более стихи о любви – это зеркало творчества всякого настоящего поэта. Поэтому, наверное, жёсткое деление поэзии по темам, как в продуктовом магазине делят по категориям товары («мясо», «рыба», «молоко» и т. д.), носит весьма условный характер. Тема любви так или иначе присутствует во всем творчестве Мухамата Закирова. Пишет ли он о родном крае, о службе в армии или о любых других жизненных явлениях, ставших объектом его поэтического осмысления и творческого исследования – и мы становимся свидетелями этого чувства. Например, в коротком стихотворении «Тревога» присутствует такая деталь: у солдата сон так короток, что любимая девушка не успевает ему присниться. Вот и решай, о любви это стихотворение или о службе?..
Тем не менее, второй отдел книги «Родной дом» посвящен сугубо стихам о любви. Сразу видно, открывающее этот отдел четверостишие написано не молодым, а уже прошедшим жизненные испытания человеком. Тот ли я ещё теперь, спрашивает он свою молодость, чтобы снова к тебе возвратиться? И потом всё-таки решается, несмотря на все жизненные преграды, снова отправиться в путь к своей юности:
Может, вьюги, что в будущем будут,Своим жаром очистят мне кровь?..Ах, вдохнуть бы хоть раз полной грудьюВоздух юности радостной вновь!Тоска по молодости свойственна всем людям, но тема возвращения в неё, наверное, продиктована еще и недовольством окружающей действительностью и желанием хоть что-нибудь изменить в ней к лучшему – сделать так, как было в молодые годы, когда мир казался прекрасным и переполненным ожиданием счастья.
Если судить по стихотворению без названия, начинающемуся строкой «Как будто счастлив я с тобою», то может показаться, что у поэта в этом плане, даже несмотря на случающиеся в жизни неурядицы, полная гармония:
Бегут года, судьбу итожа,А в небе – те же облака.И с каждым годом мне дорожеМинута, что с тобой я прожил,Хотя она порой – горька…Как бы ни был ухожен островок любви, на нём незаметно присутствуют и еле уловимая тоска, и неосознанная глубокая печаль. Поэт как будто чувствует наперед, что его хрупкий мир счастья может вот-вот разрушиться. Потому что:
Как будто счастлив я с тобою,Но это – лишь на первый взгляд.Единство наше – поле боя,Вино в бокале голубое,В котором вместе – страсть и яд…Мечты об идеальной любви разбиваются о камни суровой действительности. Но и здесь поэт остаётся самим собой:
Жизнь без тебя – страшней бурана,Когда всё снегом замело…С тобою – вдвое тяжело.И ухожу я, как подранок,Влача подбитое крыло.Не зная, где уснуть придётся,Бреду я в ночь от дома прочь.Никто не может мне помочь.Лишь несмышлёная смеётсяВ дверях единственная дочь…Однако, несмотря ни на какие житейские передряги, в душе поэта всегда живёт надежда на то, что настоящая любовь не может исчезнуть навсегда, не оставив никакого следа в судьбе и в сердце:
И даже если догораетКостром в душе твоей любовь,Она навек не умирает,А просто переходит – в боль.Самая объемная часть единого поэтического целого – это, конечно, третья, основная часть книги «Родной дом». Об этом красноречиво говорит лаконичное, но очень ёмкое двустишие, которым открывается эта часть книги:
В душе живёт – тоска о небе…И дума – о насущном хлебе.Поглядим же внимательнее на то, чем притягивает к себе поэта высокое и романтическое небо, переходящее в безграничную Вселенную. В которой кружат созвездия, таятся чёрные дыры, летают кометы и умирают брошенные нами среди звёзд искусственные спутники. Вот перед нами стихотворение «Лайка» и предшествующая ему вырезка из газеты «АиФ» (№ 33 за 2008 год): «Космонавт Владислав Волков на орбите услышал собачий лай и узнал Лайку. Лайка – первооткрыватель космоса, была оставлена там на гибель». И вот как заканчивает посвящённое этой трагической истории стихотворение Мухамат Закиров:
…Но что же наше будущее? Что насЖдёт на задворках стынущих небес,Где в чёрной бездне лишь собачий голосЗвенит, тревожа Космос, будто лес,Стуча набатом марсианам в ушиИ разрывая болью наши души…В последние десятилетия мы и сами в какой-то мере начали походить на эту несчастную Лайку, брошенную за ненадобностью в холодной космической вечности. С каждым днём мы становимся всё более чужими друг другу, глухими к боли ближних. Нас всё меньше и меньше трогает чужая беда, хотя мы и пытаемся это тщательно скрывать, и пока что это у нас успешно получается. Но человек всё больше теряет веру в человека и, хочет он этого или нет, а, живя в обществе, он становится всё более изолированным от общества. Сосед не здоровается с соседом, отец не понимает сына… Выйти из дома ночью становится так же страшно, как оказаться одному в чёрной бездне Вселенной. И, говоря о Космосе, поэт явно пытается предупредить нас о какой-то глобальной опасности, грозящей нам ещё здесь, на давно уже обжитой нами Земле:
А я иду. Куда, зачем иду?Мороз крепчает, завывает вьюга.Где я ночлег спасительный найду?Смогу ль за деньги обрести я друга,Чтоб он помог мне отвести беду?..Враждебно смотрит чёрная округа.За золото – не купишь рай в аду…Всё более ширящееся отчуждение между людьми единой вчера ещё державы, всё отчётливее углубляющееся непонимание между носителями разных вер и культур неодолимыми рвами разделяет братские народы, наполняя мир духом одиночества и разъединённости. Откуда в наших городах стало столько бездомных, ведь каждый человек рождается под крышей, пишет Мухамат Закиров, пытаясь взглянуть на данную проблему изнутри этой бесчеловечной ситуации:
И даже солнце, всем сияя свыше,Не согревает в жилах моих кровь.Лишённый жизнью даже ветхой крыши,Как славу жизни пропою я вновь?..Прочитывая строки, в которых видна не риторическая, не плакатная, а реально выстраданная и выношенная в сердце правда жизни, нельзя остаться безучастным, не прореагировать на них своей собственной болью. Тем более, что большинство из описанного в стихах Закирова оказывается хорошо узнаваемо и для читателей, многие из которых пережили похожие истории.
Так, например, в начале 1990-х годов лирический герой Закирова лицом к лицу повстречался с волчьими нравами, постучавшегося и в наши дома, и души, «дикого капитализма». Стихотворение «Стая» («Өйөр») повествует как раз об этом. В нём рассказывается, как на проспекте Октября (будто в насмешку над идеей пролетарской революции!) каждым зимним днём собираются безработные, надеющиеся получить хотя бы какую-то работу и заработать семье на хлеб. Среди них находится и лирический герой стихотворения (а, может быть, и сам автор). Но на этом неофициальном рынке труда образовалась стихийная стая. Какую бы работу не предложил работодатель, эта стая тут же забирает все заказы себе, силой отшвыривая прочь всех остальных – обессилевших от голода и мытарств безработных. И эта, казалось бы, в высшей степени прозаическая картинка становится под пером Муха-мата Закирова самой высокой поэзией:
День прошёл. Надежды догорают,Словно звёзды на рассветном небе.Здесь не просто хлеб твой отбирают —Отбирают даже мысль о хлебе!Вот фонарь единственный включилсяНа углу, где хлебный магазин.Я до дома еле довлачился —Шум в ушах, как будто муэдзинПризывает верных на молитву…Завтра утро. Я опять пойду,Чтоб вести со стаей хищной битву —За стремленье к хлебу и труду.Неудивительно, что у поэта Мухамата Закирова присутствует столь обостренное чувство к социальной несправедливости и унижению достоинства человека, – если ему самому довелось пройти через описанную выше ситуацию, то он знает проблемы простого человека не понаслышке. И это даёт ему право не только на исповедальность тона, но и на поэтические обобщения, сродни таким, как в цитируемом ниже стихотворении:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: