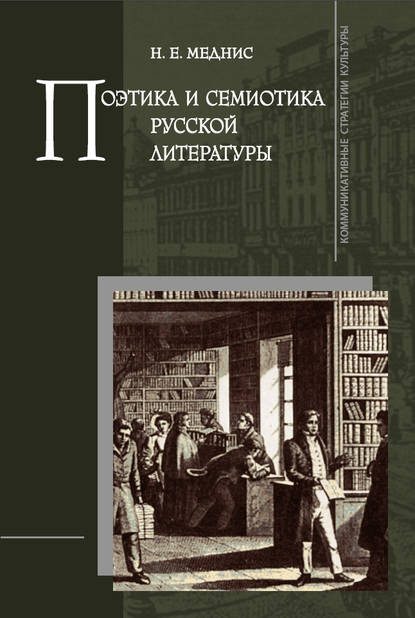По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поэтика и семиотика русской литературы
Автор
Жанр
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок. (V, 60)
2) А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон;
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он… (V, 60)
3) Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины… (V, 61)
Поскольку развитие романа представлено Пушкиным как ряд сменяющих друг друга романных моделей, в котором каждая последующая утверждает несостоятельность предыдущей, естественно предположить, что модель самого романа «Евгений Онегин», в которой литературность снимается тем, что на каждом этапе автор осознает ее именно как литературность, может рассматриваться автором как конечная, единственная эстетически истинная, прогнозирующая будущее движение романа как жанра. Однако здесь есть одна сложность: отвергая прежние романные модели и построенные на их основе прогнозы как нежизненные штампы, автор излагает свое художественное кредо:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых… (V, 203)
Далее эта установка реализуется в описании Одессы:
Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем – и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.
_____________________________
А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал. (V, 204—205)
Всякий раз такие слепки с натуры даются в противовес либо себе прежнему, либо нынешнему романтическому и как бы снимают с действительности литературную маску, а с литературы – поэтический штамп. Но дело в том, что возведенное в абсолют движение к прозе тоже приводит к рождению штампа, только вместо штампа высокого возникает штамп низкий:
Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор…
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор! (V, 203)
Не случайно упоминание о фламандской школе. Стало быть, песчаный косогор, рябины, калитка, сломанный забор, серенькие тучи и т. д. – это тоже своего рода литературность, только с противоположным знаком. Следовательно, говорить, основываясь на этих высказываниях автора, об утверждении Пушкиным высшей романной модели – модели реалистического романа вряд ли правомерно. Кроме того, эта прогностически данная модель романа не является моделью романа «Евгений Онегин». В «Евгении Онегине», к примеру, нарочно натуралистическое описание Одессы, которое нередко толкуется исследователями как декларация художника-реалиста, завершается введением устойчиво романтических деталей и строится на смене прозаического поэтическим:
Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важный;
Чего б вы думали? – воды.
Потребны тяжкие труды…
Что ж? это небольшое горе,
Особенно когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море…
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края! (V, 205)
Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд.
Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок. (V, 60)
2) А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон;
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он… (V, 60)
3) Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины… (V, 61)
Поскольку развитие романа представлено Пушкиным как ряд сменяющих друг друга романных моделей, в котором каждая последующая утверждает несостоятельность предыдущей, естественно предположить, что модель самого романа «Евгений Онегин», в которой литературность снимается тем, что на каждом этапе автор осознает ее именно как литературность, может рассматриваться автором как конечная, единственная эстетически истинная, прогнозирующая будущее движение романа как жанра. Однако здесь есть одна сложность: отвергая прежние романные модели и построенные на их основе прогнозы как нежизненные штампы, автор излагает свое художественное кредо:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых… (V, 203)
Далее эта установка реализуется в описании Одессы:
Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем – и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.
_____________________________
А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал. (V, 204—205)
Всякий раз такие слепки с натуры даются в противовес либо себе прежнему, либо нынешнему романтическому и как бы снимают с действительности литературную маску, а с литературы – поэтический штамп. Но дело в том, что возведенное в абсолют движение к прозе тоже приводит к рождению штампа, только вместо штампа высокого возникает штамп низкий:
Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор…
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор! (V, 203)
Не случайно упоминание о фламандской школе. Стало быть, песчаный косогор, рябины, калитка, сломанный забор, серенькие тучи и т. д. – это тоже своего рода литературность, только с противоположным знаком. Следовательно, говорить, основываясь на этих высказываниях автора, об утверждении Пушкиным высшей романной модели – модели реалистического романа вряд ли правомерно. Кроме того, эта прогностически данная модель романа не является моделью романа «Евгений Онегин». В «Евгении Онегине», к примеру, нарочно натуралистическое описание Одессы, которое нередко толкуется исследователями как декларация художника-реалиста, завершается введением устойчиво романтических деталей и строится на смене прозаического поэтическим:
Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важный;
Чего б вы думали? – воды.
Потребны тяжкие труды…
Что ж? это небольшое горе,
Особенно когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море…
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края! (V, 205)
Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд.
Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса