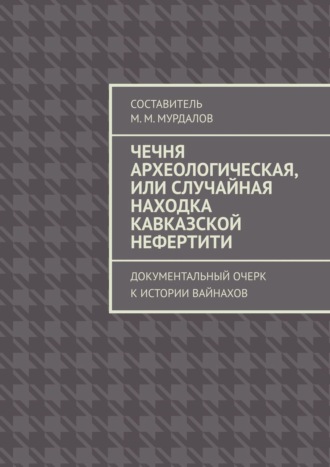
Чечня археологическая, или Случайная находка Кавказской Нефертити. Документальный очерк к истории вайнахов
Боясь упрека в том, что вместо археологии, даю читателю наброски портретов живых людей, замечу, что и самая статья моя названа мною набросками любителя прежде всего этнографии, а потом уже археологии. С чисто археологическим материалом мы познакомимся с читателем попутно, но почему же нам за одно, и даже преимущественно, не знакомиться также и с самими оригинальными археологами, тем более, что они, эти археологи, в известном смысле тоже не более, как живые представители археологической древности. Для строго научной статьи такое смещение курганных бронз с живыми людьми не совсем удобно, но я и не задавался мыслью писать строго научную статью…
В Сержен-юрт я приехал под вечер и остановился там у старого кунака своего Саадулы. Саадула – чеченец с матово-бледным, немного плоским лицом, живыми темно-карими глазами и длинным, сильно искривленным, носом, – человек приятный и бывалый. Когда-то он служил в своем ауле старшиною, но был за что-то сменен. Сам он думает, что гнев начальства обрушился на него из-за интриг его недоброжелателей и завистников, но другие говорят, что сместили его с должности за интимности с ночными охотниками на чужих лошадок и бычков. Теперь он занимается кое-какою торговлею, разъезжает не только по Чечне, но и по Кабарде и Кумыцкой плоскости и поэтому знает все и всех. Он, как и большинство чеченцев, очень любит поболтать о внутренней политике, при чем проявляет замечательную способность метко и не без юмора характеризовать персонал местной администрации. Как сын своего народа, считающий гостеприимство одною из первых добродетелей, Саадула принял меня очень радушно. Через несколько минут после моего приезда к нему, в занятой мною кунацкой уже весело горел огонь в камине, а спустя с полчаса я, мой хозяин и Хаким уже попивали дымящийся чай, оживленно беседуя о новостях дня. Воспользовавшись благоприятным моментом, я сообщил Саадуле о цели своего приезда.
– Что же ты раньше не приезжал? Заметил он, – несколько дней тому назад нашел бы весь наш аул на раскопках курганов: и старый и малый были заняты этим делом, потому – у нас теперь время досужное. Наши таки не мало курганов раскопали, да много и осталось еще…
– Значит, их будут раскапывать после?
– Нет, теперь уж нельзя: запрещено. Да и муллы наши не хвалят за это: грешно, говорят, открывать кости старых покойников.
– Хорошо; но что выкопали, то, конечно, берегут. Вот эти предметы мне и хотелось бы видеть: если есть ценные вещи, я бы купил, пожалуй.
– Трудно будет добыть что-нибудь теперь, заметил Саадула: – после запрещения раскопок стали скрывать добычу: боятся, чтобы пристав не отнял. А все же попытаюсь, поищу. Тут у меня есть свои (родственники), я вот к ним пошлю.
Саадула велел набравшейся в кунацкой молодежи сходить к названным им лицам и попросить их принести или прислать то, что ими найдено в курганах.
– Ценного у нас почти ничего не нашли, обратился он ко мне после ухода молодых людей, – золотые пряжки, которые ты видел, да бисер золотой же – вот и все. Находили больше медные вещи пустые…
Между тем вошел один из посланных Саадулы и подал мне плоскую каменную чашку с отбитым углом, найденную, как он объяснил, в одном из курганов, находящихся к северу от укрепления Эрсеной. По величине, чашка несколько менее обыкновенной обеденной тарелки; края ее загнуты внутрь. Она сделана не из глины, а как будто из превращенного частью в порошок, частью в мелкие зерна какого-то камня, даже двух камней. Сердцевина стенок ее черная, зернистая и с примесью еще мелких белых зернушек, от середины же к поверхности стенок черный цвет переходит в серый и зернистость сменяется плотною массою. Чашка обожжена, но плохо и сделана весьма грубо.
Другой молодой человек принес красный кувшинчик. Кувшинчик был невысокий, пузатый и с широким устьем; формою своею он очень напоминал кувшинчики или крынки, в которых наши крестьянки держат молоко, только последние делаются обыкновенно без ручек, а курганный кувшинчик имел две ручки, расположенные одна против другой; сделан он был из красной глины и как будто подвергался обжиганию.
Тот же молодой человек подал мне найденную в кургане небольшую овальную бронзовую пряжку, весьма сходную с пряжками, которые находят в каменных могилах, разбросанных в нагорной полосе Чечни (Ичкерия). Пряжка эта, а также описанная каменная посуда дают некоторое основание предполагать, что курганы на плоскости и разбросанные по всей Ичкерии, а также по соседству с нею, в Чеберлоевском обществе (Чеченского же племени), каменные могилы, вроде описанных мною в статье «Загадочные могилы», суть памятники одного времени и одного народа. У обладателя пряжки оказались еще тоненькие, как бумага, кусочки меди и несколько обломков каких-то бронзовых предметов.
Ничего больше сержен-юртовцы мне не показали, хотя Саадула сомневался, чтобы им нечего было показать. Разочарованный результатом своей остановки в ауле, я ухватился за мысль попытать счастья в следующем, лежавшем на моем пути в Грозный, ауле Герменчуке. Мыслью этою я тут же поделился с Саадулой.
– И отлично! Объявил мой кунак: я с удовольствием поеду с тобою. Сегодня же распоряжусь насчет верховых лошадей и завтра утром все будет готово. За почтовыми лошадьми мы пошлем в Эрсеной после, когда окончим дело в Герменчуке.
– Ей Богу, хорошо будет, вставил свое слово Хаким. – Знаешь что, Саадула, обратился он затем к нашему хозяину: – пошли-ка ты сегодня же кого-нибудь из молодых людей в Герменчук – известить о нашем приезде, все лучше, если будут знать: хорошую закуску приготовят… На принятом решении я и остановился.
III. На другой день я выехал в Герменчук в сопровождении Саадулы и Хакима. Некоторое время мы ехали котловиной, образуемой здесь последними отрогами Черных гор; потом котловина стала расширяться и около опустевшего теперь укрепления Эрсеной перед нами открылась необозримая равнина, известная под именем чеченской плоскости. Впереди нас, к северу, лежала громкая в истории покорения Кавказа Большая Чечня; налево, на краю горизонта, сквозь беловатый утренний туман, виднелась еще более громкая в историческом отношении Малая Чечня, а направо в полумгле скрывались селения мичиковского общества, охваченные выдвинувшимся из Черных гор, так называемых Качкалыковским хребтом. Вблизи нас, по сторонам дороги, местность была покрыта небольшими кустарниками и казалась несколько волнообразною. Я много раз проезжал по ней и она до того мне примелькалась, что теперь я не обратил на нее никакого внимания.
– Курганы хочешь посмотреть? Обратился ко мне с вопросом Саадула.
– Разумеется, да где они?
– А вот здесь, смотри.
Саадула указал рукою на находившиеся впереди и по бокам нас небольшие возвышенности, казавшиеся, из-за покрывающих их кустарников, природными подъемами местности. Замечание Саадулы заставило меня внимательнее осмотреться вокруг себя и тут только я заметил, что раньше ошибался насчет характера поля, которым мы ехали. Поле это, само по себе совершенно ровное, кажется волнистым, благодаря лишь массе разбросанных по нему курганов. Курганы находятся один от другого на различных расстояниях, но все образуют собою обособленную группу, занимающую площадь, размерами в квадратную версту или даже более. Высота курганов не одинаковая: иные поднимаются над уровнем поля всего аршина на 2, на 2 ½, другие имеют высоты 3—5 аршин, а в средине площади гордо возвышается курган аршин а 7—8 по вертикальной линии и в несколько десятков шагов в окружности. Замечательно, что площадь курганов смотрит прямо в Хулхулауское ущелье, отстоя от выхода из него верстах в четырех. Это, конечно, не случайность. Можно предположить, пожалуй, что так как через эту площадь в самые древние времена, как и ныне, должна была пролегать дорога из гор на плоскость, то курганное кладбище было устроено тут в знак уважения к покойникам. По крайней мере, нынешние мусульманские обитатели Кавказа, по побуждениям, имеющим тот же источник, ставят своим покойникам памятники на перекрестках дорог или на отдельных возвышенностях. Но представляется более основательным предположить, что места нахождения курганных кладбищ свидетельствуют о местах кровавых столкновений народов. Едва ли можно сомневаться, что в отдаленной древности, как и в недавно минувшее время, обитатели гор нелегко допускали к себе разных плоскостных завоевателей. Аланам, гуннам, хазарам, монголам, калмыкам, прежде чем они проникали в горы, приходилось, конечно, не раз вступать в ожесточенные схватки с воинственными горцами. Естественно, что схватки эти происходили на ровных плато, расстилающихся перед устьями ущелий, – и вот здесь и скрывается вероятнейшая причина существования у входа в Хулхулауское ущелье курганного кладбища.
Полагаю, что такие курганные кладбища существуют вблизи многих ущелий Кавказских гор. Сам я видел еще такое кладбище, притом очень большое, захватившее поле в несколько квадратных верст, перед входом в ущелье реки Акташа (северо-восточный угол Кавказа) на левом берегу реки, немного ниже кумыцкого аула Эндрей. В последнем кладбище в особенности замечательно то, что грандиозностью своих размеров оно вполне соответствует теперешним этнографическим условиям местности, в которой находится. Акташинское ущелье в настоящее время лежит на рубеже территорий трех воинственных кавказских народов – чеченцев, лезгин и кумыков. Если кумыки, быть может, и позднейшие пришельцы на берегах реки Акташа, то лезгины и чеченцы наверное обитают на верховьях ее с незапамятных времен. При таких условиях, где же и мог произойти более ожесточенный спор между плоскостными завоевателями и обитателями гор, как не у ворот, запирающих дорогу к двум отважнейшим кавказским племенам, каковы лезгины и чеченцы? Из указанных мне курганов многие были раскопаны и снова засыпаны землей. Около некоторых из них валялись черепки разбитых кувшинов и чашек, вынутых из курганных склепов. Костей нигде не было видно, так как чеченцы считают долгом снова бросать их в ямы и закрывать землею. Миновав другие курганы, я направился к самому высокому, который был тоже разрыт, но еще не засыпан. Внутреннее устройство его представляет следующую картину. По вертикальной линии от вершины кургана к его основанию сначала лежит пласт земли, толщиною около ½ аршина, очевидно, взятый из окрестных мест (темный суглинок). За этим пластом начинается другой, весьма твердый, представляющий собою цементную массу, приготовленную из речного гравия, весьма мелкого щебня и белой, как снег, извести. Замечательно, что хотя курган находится вблизи реки Хулхулау, гравий, употребленный для цементной массы, судя по цвету и величине зерен, взят не из этой реки, а из реки Аргуна, протекающей отсюда верстах в 15 к западу. Пласт твердой цементной массы опускается до уровня окрестной почвы, а далее идет крупный булыжный камень, лежавший, по-видимому, на дубовых балках, составлявших свод склепа. Балки эти рухнули и погребены под упавшими вниз кусками цемента и каменьями, но в начинающихся с этого места каменных стенах склепа виднеются большие дыры, служившие, без сомнения, гнездами для концов балок. Ниже дыр идут стены склепа, сложенные из больших, пригнанных один к другому, но не особенно тщательно, неотесанных камней. Четыре стены склепа представляют грани прямоугольного параллелепипеда. Может быть, склеп имеет формукуба, но этого нельзя было исследовать, потому что нижняя часть его, как я уже сказал, была засыпана цементом и камнями. Во всяком случае, размеры склепа весьма значительны, так как боковые стены имеют каждая в поперечнике около трех аршин. Из четырех стен склепа три глухие, а в четвертой, восточной, находится четырехугольное отверстие, на подобие дверей, заваленное снаружи огромным камнем. Ясно, что отверстие действительно служило дверью, через которую были внесены в склеп покойник или покойники и все то, что находится в нем. По окончании работы в склепе, вход в него завалили таким камнем, чтобы он не мог быть сдвинут с места, потом уже произвели обвалку своего сооружения цементною массою и последнюю засыпали землею.
Осмотрев на половину раскопанный курган, я очень пожалел, что не имел ни времени ни средств взять на себя доведение дела до конца. Зная чеченцев, я был убежден, что, не смотря ни на какие запрещения, они доберутся-таки до основания склепа и, быть может, найдут в нем не мало драгоценных в археологическом отношении предметов. Что они сделают с ними? – Все, не имеющее цены на рынке, будет ими разломано и брошено, а предметы из благородных металлов попадут в руки невежественных серебряков – тавлинцев, которые поспешат употребить их в дело, т. е. перелить в пряжки, гайки и т. п. предметы, которыми украшаются оружие, одежда и конская сбруя.
За невозможностью осмотреть вполне раскопанный и не засыпанный еще курганный склеп, я обратился за разъяснением некоторых подробностей к окружавшей меня кучке чеченцев, успевших сбежаться сюда из Сержень-юрта. Из слов их оказалось, что пол склепа обыкновенно сделан из цементной же массы и отличается необыкновенною твердостью. На полу, среди камней и мусора, лежат раздавленные и разломанные кости, между которыми находят по два, по три и более человеческих черепов, больших и малых. В одном случае нашли, будто бы, сохранившийся в целости череп странной формы: имея непомерную длину от лба к затылку, он был очень узок по линии от виска к виску. Какой-то любознательный чеченец, с целью определить его крепость, пустил в него камнем, и череп, разумеется, разлетелся. Разные металлические вещицы отыскиваются в том же мусоре, при чем иногда их находят в каких-то истлевших и почерневших обертках, расползающихся при прикосновении к ним. Так как окружавшие меня чеченцы ничего более о курганах сообщить мне не могли, то я отправился с своими спутниками дальше, в аул Герменчук.
IV. Верстах в двух от Герменчука нас встретил предупрежденный накануне о моем приезде приятель Саадулы-Чими, выехавший из селения верхом на прекрасном гнедом коне, в сопровождении двух молодых чеченцев, составлявших его почетный конвой. При моем приближении Чими стал с своим конвоем перпендикулярно к дороге и, когда я поровнялся с ним, ловко и красиво сделал «под козырек», произнеся с некоторою торжественностью: «марша-алва!» (Здравствуй). Потом он почтительно пожал мне руку и поехал рядом со мною, ежеминутно уступая мне дорогу, если к тому встречалась хоть малейшая надобность. В одном месте дорогу перерезывала канава, наполненная водою. Когда мы были шагах в пяти от нее, Чами ударил свою лошадь плетью и быстро переехал канавупрямо против моей лошади, предупреждая этим возможность беспокойства с моей стороны. Тоже он сделал, когда мы под самым аулом переезжали через очень жиденький мостик. Чими по наружности было около 30—31 года. Лицо его, продолговатое и сухое, с тонкими выразительными чертами – большим орлиным носом, очень тонкими губами, длинным и остроконечным подбородком, узким прямым лбом и большими темно-карими глазами – дышало живостью и энергиею; тою же энергиею и какою-то душевною бодростью веяло и от всей его фигуры, высокой, сухой и вместе с тем гибкой, как у молодой девушки. Сразу было видно, что мой новый знакомый принадлежит к тому особому типу чеченцев, который встречается почти исключительно в одной приаргунской Чечне.
Русские, живущие на Кавказе, а еще чаще те, кто случайно заглядывает в этот уголок России, говоря о некоторых кавказских горцах, в том числе и о чеченцах, не редко характеризуют их словом «рыцари». Вообще говоря, называть чеченцев рыцарями значит или чрезвычайно суживать значение слова рыцарь, или чрезвычайно преувеличивать некоторые черты характера чеченца, забывая о существовании многих других черт. Однако чеченцам типа Чими во многих отношениях трудно отказать в праве на этот лестный эпитет. Как сыны своего народа, они подчас и задорны, и вспыльчивы, и мстительны, и легкомысленны, но за то в них много бесспорно привлекательных качеств. По манере держаться, по тонкой и изящной предупредительности в обращении с людьми – это настоящие джентльмены. Потом им не чужды и прямодушие и верность данному слову. Как истыерыцари-воины, они умеют и любят только одно – служить предержащей власти в качестве как бы национальных гвардейцев. За то, что это за гвардейцы! Исполнительные, отважные, находчивые, решительные… Чтобы вы ни возложили на Чими, будьте уверены, что он исполнит ваше поручение не только правильно и точно, но еще бодро, пылко и красиво. Солужит он нестолько ради жалованья, сколько из гордого желания быть впереди других, больше всего дорожа сознанием своего участия в правительственной машине, да некоторою тенью власти над народною массою, да еще приязнью и доверием (он страшно дорожит доверием) своего повелителя. Как известно, чеченцы не подразделяются на сословия, представляя из себя сплошную демократическую массу, но глядя на чеченцев, вроде Чими, контингент которых и в Малой Чечне не велик, невольно останавливаешься на мысли, что когда-нибудь в этом народе существовало особое сословие воинов, подобное польской шляхте, и что в лице Чими и подобных ему видишь перед собою обломки этого сословия. Может быть, надо предполагать не сословие даже, а иную народность, так как иначе весьма трудно объяснить существование в народе, откровенно говоря, грубом и с низменными наклонностями, класса воинов, отличавшихся благородным профилем лица и возвышенными душевными качествами.
В пору моего посещения Чими служил начальником одного из чеченских кордонных постов. Как он сам сообщил мне с гордым самодовольством, начальство его любило и оказывало ему честь возложением на него сложных и трудных поручений. Потом я узнал, что он пользовался уважением и даже послушанием со стороны своих подчиненных, что необходимо поставить ему в заслугу, так как чеченец-подчиненный решительно не способен слушаться чеченца-начальника. Добавлю, что Чими, как и Саадула, не дурно говорил и понимал по-русски.
– Знаешь, зачем я приехал к тебе? – спросил я симпатичного своего хозяина, после того как мы заехали к нему на двор и вошли в его кунацкую.
– А зачем мне знать? произнес он с почтительно-любезною улыбкою. – Приехали – значит вы мой гость и мой долг угодить вам, чем могу. Я перевел разговор на курганы и раскопки. Чими, подобно Саадуле, выразил опасение за счастливый исход моих поисков, сославшись настрогость приказания начальства. Но когда я разъяснил ему, что приказание не распространяется на предметы, уже найденные при раскопках, то он изъявил готовность оказать мне посильную помощь для достижения моей цели. Вслед затем он извинился, что оставляет меня на некоторое время, и своею театрально-величавою походкою вышел из комнаты.
Через несколько минут Чими вновь вернулся в саклю и, с выражением удовольствия на лице, подал мне какой-то кусок бронзы.
– Кое-что нам принесут – я распорядился, произнес он, – а пока вот одна вещица, которую я сейчас выпросил у своего знакомого: – он нашел ее при разрытии кургана, что находится верстах в трех от нашего селения на берегу Джалки.
Поданный мне кусок бронзы походил и на археологический топорик с отломанною переднею частью и плоскою дугообразною приставкою к задней стороне шейки топорика, и на гайку ножен какого-то холодного оружия, может быть, ножа или кинжала с узким клинком. В пользу последнего предположения говорит, пожалуй, некоторое отдаленное сходство этого куска бронзы с поперечными металлическими перекладинками, которые обыкновенно помещаются у корня рукояток мечей, сабель, шашек. Никаких украшений и рисунков на бронзе не оказалось. Поверхность ее была гладкая, тусклая и с небольшими зелеными пятнами ржавчины. В противолежащих стенках шейки топорика имеются по одному круглому отверстию и каждое из них с наружной стороны окаймляется круглою выпуклостью. Пока я рассматривал бронзу, вошел в саклю чеченец, державший в руках какой-то глиняный кувшин и кроме того холщевую сумочку. По местному обычаю, чеченец издали кивнул мне головою, произнеся на своем родном языке: «здравствуй! Хорошо ли живешь!» и протянул мне кувшин, в котором при этом прозвенели какие-то металлические вещи. Сумочки он не дал мне в руки, а положил ее подле меня на стоящий тут низенький трехногий стул. Кувшин формою своею был подобием кувшинчика из красной глины, описанного мною раньше; сделан он был, впрочем, аккуратнее и симметричнее последнего. Высота его была 18 см, диаметр дна равнялся 10 см, в месте наибольшей выпуклости стенок диаметр круга составлял 16 ½ см, а круг верхнего обреза имел в диаметре 9 ½ см. вместо двух ручек красного кувшинчика у этого была только одна ручка. Из высыпанных из кувшина металлических предметов, частью цельных, частью сломанных, прежде всего мне бросилась в глаза серебряная пластинка довольно своеобразной формы. Очень тонкая и не больших размеров (длина 11 см и ширина 1 ½ см), она одним концом своим представляет наконечник копья, охваченный с боков двумя полукружиями; от места соединения обоих полукружий идет вниз узкая четырехугольная пластинка, чуть-чуть расширяющаяся книзу. Пластинка гладкая, но у боковых сторон ее виднеются небольшие выемки и надрезы, а по средней линии ее в двух местах имеются круглые сквозные отверстия. Кроме этой цельной пластинки из высыпанных из кувшина осколков я составил еще таких же три пластинки, из которых одна была тоже серебряная, а остальные две – бронзовые. Нельзя было сомневаться, что все четыре пластинки составляли два тождественных предмета. Серебряные пластинки, очевидно, служили лицевою стороною предметов, а бронзовые были изнанкою; в средине же между теми и другими пластинками помещалось что-то менее прочное, может быть дерево или кожа, истлевшая от времени. Пластинки и сердцевина их скреплялись между собою металлическими гвоздиками, на что ясно указывают симметрически расположенные отверстия в пластинках, а также найденный в осколках бронзовый гвоздик, свободно входящий в отверстия. В той же кучке обломков оказались еще плоская серебряная пряжка и две маленькие пряжки.
По поводу пряжек нужно сказать, что их попадается очень много, как в курганах, разбросанных на плоскости Чечни, так и в каменных могилах (дольмены) Ичкерии. В собранной мною небольшой коллекции предметов, добытых из курганов и каменных могил, пряжек больше, чем всяких других вещей. И замечательно, что они до крайности разнообразны, как по металлу, из которого сделаны, так и по форме и величине. Из этих пряжек бронзовые отличаются большею частью массивностью, серебряные и медные бывают обыкновенно плоские, а золотые, как например, описанная выше пряжка, извлеченная из сержен-юртовского кургана, сделаны с такою экономиею в металле, что остается предположить, что в пору употребления всех пряжек золото ценилось дороже даже, чем теперь.
Обилие пряжек в могилах и отсутствие в них крючков и пуговиц (нечто, похожее на пуговицы, было найдено только в одном курганном склепе, о чем говорится дальше) заставляют думать, что эти пряжки употреблялись взамен всякого рода иных застежек. В виду результатов раскопок, произведенных в других местах Кавказа, например, в Осетии, можно позволить себе в отношение пряжек еще одно соображение. В Осетии, в могилах более древнего происхождения находят род булавок с очень большими плоскими бляхами на одном конце да еще так называемые фибулы. Пряжек в этих могилах мною найдены те же булавки и фибулы, но неизмеримо меньших размеров. В последних могилах рядом с фибулами и булавками попадаются уже и пряжки; точно также в могилах Осетии позднейшего времени тоже находят больше пряжек, чем булавок и фибул, а затем последние предметы пропадают вовсе и вместо них появляются пряжки всевозможных видов и форм. Завзятые археологи остановились на мнении, что булавки были принадлежностью головного убора древней женщины. Это мнение позволительно оспаривать по следующим соображениям. Толстый и массивный стержень археологических булавок доходит иногда до 10—14 вершков в длину, причем служащая головкою его бляха имеет вершка четыре в длину и вершков 6—8 в ширину. Если оставить в стороне невежественное мнение о великанах и великаншах, населявших Кавказ в пору возведения вскрываемых ныне могил, то не возможно ничем убедить себя, что древняя женщина добровольно обременяла свою голову такою непомерною тяжестью. Не забудем, что эта женщина, как доказывается могильными находками, носила еще довольно грубые и тяжелые подвески и, по всей вероятности, вплетала в свои волоса множество стеклянных и каменных бус. С другой стороны, бросается в глаза полное несоответствие булавок, как предполагаемого головного украшения, с другими украшениями древнего человека. Бусы того времени, в общем, нисколько не больше, например, теперешних бус. Браслеты, кольца, даже серьги – все это по размерам разве чуть только превосходит размеры подобных же предметов, употребляемых женщиною наших дней… Но в таком случае что же представляют собою эти булавки и в чем заключается связь их с фибулами и пряжками? Полагаю, что мы стоим тут перед образною историею искусства одеваться и украшать предметы одежды. Был момент, когда наглухо сшивать части одежды (конечно, ремешками или высушенными жилами животных, с помощью бронзового шила или бронзовой иглы) уже умели, но еще не существовало удовлетворительных приспособлений для временного соединения частей одежды в тех местах, где глухие швы были не удобны, например, на груди, т. е. не существовало ни пряжек, ни пуговиц, ни крючков. Место этих более или менее удобных приспособлений или орудий, по всей вероятности, и занимали тогда первобытные булавки, употреблявшиеся на груди таким образом, что получался косой крест. В то же время для скрепления пояса употреблялась четырехугольная бляха с очень грубым крюком, запускавшимся прямо в кожу пояса. Потом для той же надобности – скалывания одежды – изобрели фибулы, а от них перешли уже к пряжкам. В силу слабого развития в тогдашнем человеке изобретательной способности, на переходы от одного типа пряжек к другому потребовалось, конечно, не мало времени, и этим объясняется, почему могилы, в которых встречаются пряжки, носят явные следы более нового происхождения, чем могилы с булавками. Однако, художественное чутье подсказало древнему кавказскому человеку, что симметрически расположенные на груди две одинаковые дощечки или две бляхи очень украшают грудь и, раз поняв это, он пристрастился к своему первобытному украшению, хотя прежняя надобность в нем и миновала. Не здесь ли таится источник происхождения круглых блях, к которым я перейду сейчас, а также происхождения тех двух рядов блестящих козырей, которые придают такую красоту черкеске современного нам кавказского горца?




