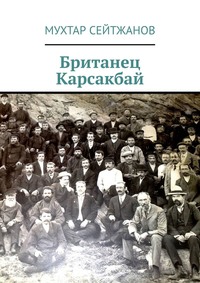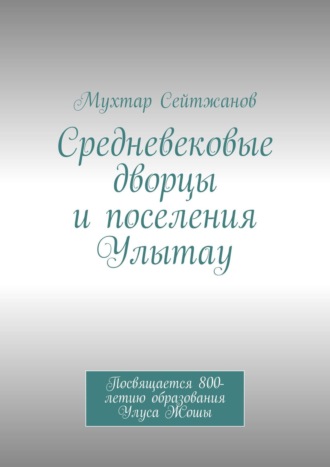
Средневековые дворцы и поселения Улытау. Посвящается 800-летию образования Улуса Жошы
Самыми древними, из зарегистрированных и взятых на учет, являются памятники ашельского периода эпохи палеолита, такие как Музбель, Жаман-Айбат, Аякбулак, Обалысай. Особое место занимает памятник эпох мезолита и неолита Токтагул, расположенный в устье рек Улькен Жезды и Талдысай. Неолитический, Андроновский27 и Бегазы-Дандыбаевский28 периоды в Улытау представлены стоянками и поселениями Талдысай, Улытау, Айбас Дарасы, Жанайдар, Уйтас-Айдос и т. д.
С распространением тюркской культуры, в раннее средневековье Улытау заселили кангаро-печенеги, а потом огузы. Их правители построили для себя укрепленные дворцы, которые названы в археологии городищами и являются объектами нашего исследования. Эти городища были унаследованы правящей элитой кимеков и кыпчаков, а затем и чингизидами в акординский период.
Рассматриваемые нами в работе объекты классифицированы Жуманом Смаиловым по итогам его археологических работ на 4 вида: 1) городища, выполнявшие роль временных или сезонных крепостей – это такие, как Тогызбайколь, Алаша хан ордасы, Жангабыл; 2) укрепленные дворцы – Шоткара, Айбас дарасы, Топыраккорган; 3) поселения – ставки с укрепленной цитаделью – Аяккамыр, Баскамыр, Ногербек дарасы, Ески хан ордасы (Аксай), Домбагул, Каратон; 4) административные центры чингизидов с неукрепленными дворцами – Жошы ордасы, Келинтам, Болган ана, Белен ана, Барак хан, Жубан ана. Наша книга разделена на главы согласно данной классификации.
Хотелось бы уточнить, что наша книга не претендует на соискание какой-либо научной степени или получения какого-либо гранта, а лишь преследует цель лишний раз познакомить тех, кто еще не знаком, с великолепными памятниками истории – средневековыми дворцами и поселениями Улытау. Мы не ставили перед собой принципиальной задачи создать объемный и строго академический труд и, в то же время, попытались поднять и другие злободневные вопросы экологического или социального характера. Автор допустил некоторые вольности в обсуждении тех или иных изучаемых объектов, приглашая к дискуссии читателя. При этом, мы учитываем возможность опровержения нашей точки зрения без политизирования ситуации, как это обычно происходит после выхода критических статей или книг на исторические темы.
Надеемся, что книга даст возможность открыть новые горизонты изучения истории Казахстана и Улытауского края и станет еще одним шагом для презентации средневековых археологических памятников нашего региона для широкого круга читателей, интересующихся историей.
Глава І. Предпосылки для возникновения в Улытау городищ раннего средневековья
Развитие средневековой городской культуры в Западной Сары-Арке происходило поэтапно. Алькей Маргулан выделяет четыре периода развития архитектуры и строительного дела в Казахстане: раннего средневековья VI – IX вв., развитого средневековья X – XII вв., монгольского периода XIII – XIV вв. и позднего средневековья XV – XVIII вв.
В предгорьях Улытау сохранились развалины дворцов, замков и неукрепленных ставок-орд политической элиты средневековья. Жатакские кыстаки представляют более позднее время, а именно, период колонизации родоплеменных земель Казахского ханства империей Романовых. Это объясняется тем, что правящая власть номадов находилась в Улытау круглогодично, время от времени располагая свои резиденции в Сырдарье. К тому же, Улытау всегда являлся местом укрытия для оппозиционных правителей Мавераннахра,29 которых огузо-кыпчакская, а позже и акординская власть использовала в своих внешнеполитических целях.
Что касается остального населения, определяемые историческими источниками как «қара бүтін» – по-тюркски или «қара халық» – по-казахски, то ввиду занятия сезонно-пастбищным скотоводством, у них не было нужды строить постоянные жилища на жайляу.30 Они обходились разборно-сборным жилищем – юртой, которая заменила срубные и глинобитные наземные жилища насельников бронзового века и дала возможность освоению более широких просторов Великой степи за счёт увеличения расстояния годового цикла кочевания. Уже в VII – VI веках до н.э. юрта стала основным жилищем номадов. Об этом свидетельствуют античные источники, оставившие сведения о юрте, как жилища саков, гуннов и других.
Плано Карпини в XIII веке так описывает юрту: «Ставки у них круглые, изготовленные наподобие палатки и сделанные из прутьев и тонких палок. Наверху же в середине ставки имеется круглое окно, откуда падает свет, а также для выхода дыма, потому что в середине у них всегда разведен огонь. Стены же и крыша покрыты войлоком, двери сделаны также из войлока, …некоторые быстро разбираются и переносятся на вьючных животных, другие не могут разбираться и перевозятся на повозках». (Маргулан А. 2011).
Средневековые кыстаки в Улытау не сохранились, так как для их строительства применялся сырцовый кирпич, а для поиска и исследования кыстаков этого периода нет археологического интереса. Кыстаки со временем уничтожаются в три этапа: первый – разбор бесхозного жилища на строительный материал; второй – механическое растворение сырца в почве из-за многолетних осадков; третий – фундамент развалин засыпается песком, приносимым постоянными ветрами. На основе этого археологами определяется тип развалин. Остатки Улытауских дворцов в виде бугров могли достигать от 0,5 до 4 метров в высоту, а кыстаков не более 30—40 см.
В Улытау сохранились развалины кыстаков XIX – XX веков. Интенсивная колонизация казахской земли Российской империей, отразившаяся в строительстве казачьих военных линий, изъятии лугово-пастбищных угодий казахских родов, вытеснении казахов в «малокультурные» засушливые земли, привела к земельной тесноте в Улытауском регионе. Поэтому, волостные управители повсеместно призывали местное население развивать земледелие и слово «жатак» в это время становится часто призносимым. Процесс оседания части номадов привел к увеличению темпов строительства зимовок, загонов для скота, а вместе с тем и большого количества мечетей.
Периодизация строительства и функционирования дворцов и поселений Улытау можно разделить на огузо-печенежско-кыпчакский и акординский периоды. Первый период отличается расцветом строительного искусства в воздвижении дворцов с укрепленными стенами и цитаделями, а второму периоду характерно строительство неукрепленных поселений с административными ставками региональных правителей-чингизидов и использование, доставшихся в наследство от кыпчаков огузо-печенежских дворцов.
Наряду с постоянными круглогодичными резиденциями, были воздвигнуты такие сезонные укрепления, как Тогызбайколь. Постоянные ставки функционировали как в огузский период, так и в акординский. Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок на Баскамыре, Аяккамыре, Аксае, Жошы ордасы и т. д.
Экономическим основанием для возникновения дворцов и поселений в Улытау является многоотраслевое хозяйство, состоящее из кочевого скотоводства, металлургии и ремесла, а также придворовых очагов подсобного земледелия.
Заселению западного бассейна реки Сарысу характерно ежегодное демографическое «дыхание», когда в апреле русла рек начинают занимать многочисленные аулы с отарами и табунами, а осенью Улытау покидали все, кроме рудокопов и металлургов Жезказгана, а также правящей верхушки, которые оставались в своих дворцах и поселениях.
В этой книге мы не претендуем на установление истины или окончательной версии трактовки той или иной дискуссионной исторической темы, будь то Орда-Базар, Хан ордасы или Домбагул, а лишь предпринимаем попытку подвести итоги археологических, антропологических, этнографических, географических исследований по различным тематикам, относящимся к нашим объектам.
Предлагаемое нами видение по памятникам Улытау не является попыткой приукрашивания роли дворцов, ставок-орд региона, а преследует цель отдельно осветить их место в средневековой геополитике Великой степи и популяризировать среди широкого круга читателей, за счёт подкрепления тематики документальными фактами. При работе предпринята попытка обретения плоти скелетами тех источников, которые общеизвестны и применяются в обсуждении событий, происходивших в степных просторах нашего края.
В историографии по отдельным объектам нашей темы существует путаница в вопросах принадлежности, истории возникновения и трактовки событий по рассматриваемым нами объектам. Особенно нужно отметить ошибки, которые существуют в энциклопедиях, изданных в разные периоды. Например, в 11 томе «Қазақ Совет энциклопедиясы», изданной в 1977 году под редакцией академика Мухаметжана Каратаева в статье «Топырақ қорған» автор статьи располагает это средневековое городище в 20 км от поселка Жезды на 8 км севернее Аяккамыра. При этом ссылка делается на труд А. Х. Маргулана «Археологические разведки в Центральном Казахстане» (1948). В то же время в восьмом томе «Сочинений» Алькея Хакановича на странице 341 мы читаем «…Около крепости Алаша-хана находились поселения Топрак-Корган, Ногербек Дарасы, Айбас-Дарасы». Тем самым мы определенно наталкиваемся на противоречие в координатах расположения Топрак-Коргана, причем все ссылки идут именно в адрес трудов А. Маргулана.
Поэтому, в нашей книге мы попытаемся упорядочить все существующие противоречивые трактовки и рассмотрим возможности для выстраивания общего повествования о дворцах и поселениях Улытау. Для этого нам необходимо подробней остановиться на хозяйственной деятельности проживавшего здесь населения в рассматриваемый период и условиях возникновения этого хозяйственного цикла.
Суровые природно-климатические условия, аридность почвы и высокая солнечная радиация сформировали кочевничество, как хозяйственную основу жизнедеятельности Улытауского региона, хотя очаговым подспорьем скотоводству можно отнести земледелие, развитие которого прослеживается в поймах рек и, редко, небольших озер. Об этом свидетельствуют следы пашен древних и средневековых земледельцев, а некоторые источники указывают на распространение чигирей31, широкое применение которых было возможным из-за наличия круглогодичной водоносности отдельных плесов. А. Маргулан приводит следующие сведения, свидетельствующие о наличии в регионе большого количества чигирей: «Уже в наше время мы обратили внимание на большое число чигирей, разбросанных по долинам рр. Тургай, Жыланшык, Кенгир, Сарысу и др. От слова чигирь получила свое название речка Чигирлы-Жыланшык». (Маргулан А. Сочинения. Т.8. 2011).
Кроме кочевого скотоводства и земледелия в регионе существенное развитие получила металлургия, которая была главным способом обогащения местной феодальной знати. Металлургическая продукция экспортировалась среднеазиатскими купцами в различные страны Евразии и давала возможность усиления и содержания военной силы степняков.
Экономической основой дворцов являлась торговля со среднеазиатскими купцами, которых в свою очередь интересовали драгоценные и цветные металлы, а также железо и марганец. В качестве главной путеводной артерии из урбанизированного Южного Казахстана в степь использовалась река Сарысу.
В основной части нашей книги мы подробно остановимся на дворцах огузо-печенежского и кыпчакского периодов и неукрепленных административно-торговых центрах акординской эпохи.
Городища Улытау возникли в период становления тюркских каганатов и являются продуктом тюркского строительного дела. После окончания вековой засухи, длившейся в III – IV вв. и охватившей всю аридную зону Земли, в Евразийской степи появились новые племенные объединения номадов под этнонимом «тюрк», что означает «бдительный».32 Этноним «тюрк» отображает то жизненное состояние кочевников, когда они жили при постоянном ожидании истребления со стороны их врагов.
Конечно, современному исследователю ближе объяснение происхождения какого-либо этнонима в призме характеристики жизненного уклада изучаемого народа. Но, в то же время, источники предлагают свое объяснение происхождения этнонима «тюрк». Например, в «Родословной туркмен» Абу-л-Газы, в повествовании истории происхождения огузов, называет Тюрка сыном Яфеса и внуком Ноя.
Пожалуй, не имеет смысла здесь перечислять подвиги и достижения тюрков, которые общеизвестны в исторической науке. Отметим лишь, что в конце 70-х годов VI века тюрки достигли северного побережья Черного моря и установили контроль над всеми ветвями Великого Шелкового пути, проходившими по территории современного Казахстана. Безопасность по периметру караванных торговых путей, обеспеченная тюрками в союзе с Византией, привела к бурному расцвету торговли, а соответственно, городской культуры Южного Казахстана и Семиречья.

ЦКАЭ под руководством Алькея Маргулана (четвёртый справа). Третий справа – отец автора книги – Бакыт Сейтжанов, парторг совхоза Аманкельдинский. (Фото из семейного архива автора).
Следы тюркской культуры в Улытау запечатлены погребальными комплексами в предгорьях Улытау и Аргыканаты, а также в бассейнах рек Караторгай и Кенгир. В 1950 году ЦКАЭ во главе с А. Маргуланом открыла научному миру памятники тюркского периода – Аргыканатинские каменные изваяния. Множество балбалов33 было обнаружено в горах Мык, Домбагул и Айыршокы. Изваяния были высечены из плоских каменных столбов. Характерным для всех погребальных комплексов является установление балбалов в восточной части ограждений, воздвигнутых из плоских каменных плит в форме прямоугольника. Высота обнаруженных балбалов достигала 1,5—2,1 м, а ширина – 0,23—0,58 м. Изваяния установлены лицом на восток. Далее на восток от самых высоких балбалов в ряд располагается цепь изваяний более мелких размеров.
О тюркских изваяниях ещё в XIII веке писал Вильгельм Рубрук: «Команы насыпают большой холм над усопшими и воздвигают ему статую, обращенную лицом к востоку и держащую в руке перед пупком чашу. Они строят для богачей пирамиды-остроконечные домики. И кое-где я видел большие башни из кирпичей, кое-где каменные дома, хотя камней там и не находится».34
В ходе археологических раскопок скелеты погребенных не найдены, но вместе с атрибутами конской сбруи и домашней утвари был обнаружен слой золы, что указывает на кремирование трупа перед захоронением. Здесь мы имеем продолжение традиции трупосожжения, которая встречается у андроновцев Талдысая.

Цепь из разрушенных каменных изваяний-балбалов. (Фото Бахтияра Кожахметова)
В 1946—1960 годах ЦКАЭ исследовала группу каменных изваяний, расположенных в 5 км к югу от Коргантаса в предгорьях горы Едиге. Характер строительства комплекса, практически, идентичен с Аргыканатинским, хотя был сильно разрушен. Надгробные сооружения состоят из прямоугольных ограждений, построенных из плоских каменных плит размерами 1,8х2 м и более больших, размерами 5,9х6 м. Также, как и в Аргыканаты балбалы расположены в восточной части ограждений и изображения обращены лицом на восток. Продолжением сооружения является цепь из более мелких надгробных плит. В Коргантасской группе каменных изваяний сохранились только два балбала размерами в высоту 1,8 и 1,4 м.
Наряду с каменными изваяниями тюркского периода в Улытау находятся архитектурные сооружения типа «дын»35. Дыны, дынгеки или уйтасы – это архитектурные строения так называемого доисламского периода, а если быть точнее, огузо-печенежского периода, с характерным строением, напоминающим юрту. Строительным материалом являлся степной «дикий» камень, из которого воздвигались сооружения, отличавшиеся простотой архитектоники, отсутствием декора и характерной только для Центрального Казахстана.
Уйтасы встречаются в долинах рек Атасу, Сарысу, Улькен Жезды, Терисаккан, в предгорьях Улытау, в верховьях рек Кенгир и Торгай, в Каркаралинских и Баянаульских горах.
Первые свидетельства о дынах мы встречаем в одной из Орхонских надгробных надписей, которую приводит А. Маргулан и где говорится: «Мен аңғар таш барқ жараттуртым», что означает «я приказал соорудить это каменное строение». По мнению Алькея Хакановича, «таш-барқ» – это древнетюркское обозначение казахского «тас-үй» или «үйтас».
То, что дыны и уйтасы являются культовыми сооружениями, свидетельствуют различные источники, которые приводит А. Маргулан: «В Тань-шу говорится: „В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойника и описание сражений, в которых он участвовал в продолжение жизни“. В тюркских сооружениях „таш барк“ русские ученые видят аналогию храмам или часовням. По этому поводу С. В. Киселёв писал: „При гробницах ханов строили часовни с изображением умершего и каменными плитами… Около этих сооружений рядами расставлялись статуи ближайших родственников“. Академиком В. В. Радловым были обследованы сооружения „таш барк“ и каменные изваяния у памятников Бельги-кагана и Кюль-тегина. На основе этих аналогий можно утверждать, что уйтасы – культовые сооружения, как и „таш барк“, и датируются они VI – VIII вв.» (Маргулан А, 2011, с.282).

Уйтас. (Фото Бахтияра Кожахметова).
Данные утверждения подчёркивают принадлежность дынов и уйтасов к сооружениям, имеющим отношения к степной аристократии и политической элиты. Одним из таких памятников является Карадын, который расположен в 35 км на северо-запад от Улытауских гор, на побережье реки Каражыланды. Сооружение было исследовано в 1947 году ЦКАЭ во главе с А. Маргуланом. Как и все дыны огузского времени, Карадын является юртообразным строением диаметром в 8 м и высотой 5 м, воздвигнутый из плоских «диких» камней.
Грандиознейшим памятником типа «дын» в Улытау, несомненно, является общеизвестное архитектурное творение огузского периода Домбаул, расположенный на левом берегу реки Кенгир, между мавзолеями Алаша хана и Жошы хана. Отличительной чертой архитектурного стиля Домбаула от других дынов является прямоугольная структура нижней части, размерами 8,9х7,9 м и толщиной стен около 2 м. Вокруг самого дына имеются множество захоронений с балбалами.
По преданиям и легендам, рассказанным Алькею Маргулану местными жителями, Домбаул «был знаменитый мерген36, поэт и музыкант – сочинитель кюев. В западной части гор Улытау лежат руины древнего замка, где жил Домбаул». (Маргулан А. 2011). О каком замке идет речь, академик не уточняет. Возможно, речь идет о городище Домбагул.
В то же время, Алькей Хаканович приводит одну из легенд о Домбауле, где на основе событий о дочери хана объясняется смысл происхождения этнонима «кият». При этом А. Маргулан пишет, что «Кыяты – потомки гуннов, вместе с кипчаками, конгратами, алшынами, аргынами и др. обитали в недоступном месте Алтая, известном под названием Ергене-Конг. Позднее эти племена обжили обширные степи Центрального Казахстана. Одним из вождей кыятов был Домбаул, в память о котором был сооружен мавзолей на р. Кенгир (VI – VII).»
Это утверждение Маргулана подтверждает Калибек Данияров: «В эпосе „Огыз каган“, хранящемся в Париже в национальной библиотеке и переведенном К. Омиргалиевым, говорится о киятах. В эпосе род Кият берет свое начало от легендарного Домбаула». (Данияров К. 1998).
Скорее всего здесь речь идет о расширении территории Тюркского каганата. И попытки современных псевдоисториков отождествить Домбаула с Кетбукой не имеют под собой никакого основания, так как мавзолей Домбаул является сооружением огузо-печенежского периода и не может быть отнесен к акординскому.
Исследовательские предположения могут быть приняты или отвергнуты историографией. Согласно преданиям, которые приводит Алькей Маргулан, Домбаул, похороненный на берегу реки Кендирли (Кенгир) в Улытауском районе, Карагандинской области, являлся предводителем рода Кият, находившихся в огузском объединении 24 племён. Как тогда Кияты оказались на берегах Онона и Керулена? Мы не поддерживаем мнение некоторых исследователей, которые пытаются доказать, что место «прописки» Темучина находится в Тасты Кыпчаке. Слишком много источников отвергают такое мнение. Если они достоверно докажут свою гипотезу, то тогда – пожалуйста. Мы же объясняем такое передвижение на восток, вопреки закону миграции в Великой степи с востока на запад, запатентованному гуннами или күнні (движение вслед за солнцем), вековыми засухами Льва Гумилёва. Трактуем весь процесс: Огузы примерно в начале VIII века оттеснили с бассейна Сырдарьи на запад кангаро-печенегов и освоили степные просторы Турана и бассейна реки Сарысу. В Х веке, согласно шестивековой цикличности Гумилёва, в степь вновь приходит засуха, которая создаёт невыносимые условия для номадов. В таких условиях спасением для кочевников являются укрытие в лесах Сибири или борьба за Алтай, которая сопровождается истреблением слабых. Остатки потерпевших поражение выживают в городской среде Средней Азии или Китая.
В Х веке начинаются междоусобные войны как в государстве огузов, так и в Кимекском каганате. В этой борьбе победителями выходят кыпчаки и устанавливают свою династию и преобразуют Кимекский каганат в Кыпчакский. Огузкая политическая элита была вытеснена кыпчаками со своих дворцов в Улытау и городов в бассейне Сырдарьи на территорию современного Туркменистана и в Иран. Остальные огузские племена ушли на запад, ассимилировались в среде западных кыпчаков, команов и печенегов, а кияты ушли на Алтай и из-за разногласий с остальными «сегиз» огузами (найманами) двинулись или были вытеснены дальше на восток, к берегам Онона и Керулена.
В 1007 году, после засухи, согласно Гумилёву, найманы вместе с кереями приняли несторианство и образовали Найманское ханство. А племена на территории современной Монголии переживали раздробленность и только на рубеже ХII и ХІІІ веков были консолидированы киятами во главе с Темучином. После завоевания Сартауыла Джучи, по указанию своего отца, освоил обетованные земли своего далёкого предка Домбаула, поселился в его одноимённом дворце в горах Аргыканаты и занялся строительством нового государства будущих казахских чингизидов и новой ставки на берегу реки Кендирлик.
К тому же, некоторые современные исследователи ассоциируют Домбаул-мергена с Добун-мергеном из «Тайной генеологии монголов», а его сыновей – Бугинутея и Белгинутея – с Баганалы и Балталы. Так ли это? Этот вопрос мы оставим открытым для дальнейших исследований. Хотя термин Домбауыл мы можем ассоциировать с топонимом, обозначающим ауыл или йурт Домб-мергена (Добун-мергена).
Тут же, рядом с Домбаулом, находится комплекс бронзового века Уйтас-Айдос, расположенный в 2 км к юго-востоку от одноименной зимовки и обозначены два археологических памятника Уйтас 1 и Уйтас 2, открытые А. Маргуланом. Объект исследован в 1984—1985 годах экспедицией Жезказганского областного историко-краеведческого музея под руководством Э. Усмановой и В. Варфоломеева. На площади 5 км² обнаружено 17 погребальных сооружений, огражденных плоскими плитами «дикого» камня и относящихся к Нуринской и Бегазы-Дандыбаевской культурам.
Около десяти уйтасов расположены на месте впадения реки Сарыторгай в реку Караторгай. Эти уйтасы были сильно разрушены. Также, остатки уйтасов находятся на горе Мык, в урочище Жанай на берегу реки Улькен Жезды, а также на побережье реки Блеуты в Буландинской долине.
Вместе с тем на летних пастбищах тюркской конфедерации племен аристократия стала строить себе дворцы и сезонные укрепленные ставки. Невыносимость нахождения степняка в городской среде Южного Казахстана из-за жары, антисанитарии и чрезмерной суеты торговцев, ремесленников и других горожан, тяготило тюрков и вынуждало больше времени находиться в степных просторах со свежим воздухом, природным спокойствием и раздольной жизнью. Об этом в «Тарихи Абулхаир-хани» свидетельствует Масуд бен Османи Кухистани, который пишет: «Когда жители города Хорезма и окрестностей этого вилайета провели некоторое время [под защитой] моря справедливости и благодеяний [Абулхаир-хана], [мудростью своей] подобно Сулейману, в Хорезме, по предопределению Божественному и судьбы небесной появилась чума. [Ввиду этого] знатные люди войска [Абулхаир-хана] и витязи славные, привыкшие к прелестному воздуху Дешти-Кыпчака от гнилости воздуха Хорезма пришли в расстройство, и все предводители войска вместе довели до слуха хана, небесного дворца, что поводья решимости надо направить в сторону Дешти-Кыпчака, чтобы войско избавить от ужаса чумы и бедствий жары».
Несомненно, степная благодать прерывалась междоусобными столкновениями, долгими военными походами и кровопролитными битвами. Но какой кочевник не мечтает умереть в бою? Для степняка было честью умереть в сражении молодым, чем от глубокой и немощной старости. А еще хуже всего для тюрка на коне было превратиться в земледельца или ремесленника и томиться в городских стенах.
Наряду со стремлением тюркских государств контролировать города Южного Казахстана и Семиречья шла борьба и за пастбища в степных просторах. В середине VIII века среди тюркских политических сил закончилась борьба за тюргешское наследие. В результате, огузы Семиречья были вытеснены карлуками и освоили долину реки Шу, о чем свидетельствует существование их резиденции «Старая Гузия».