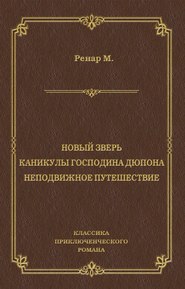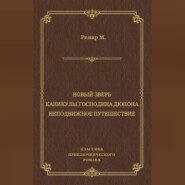По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повелитель света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На опушке леса он сказал:
– Остановимся здесь, если ты не против. Объясни мне принцип работы этой машины – она просто чудесная. Дальше этого места я не выбираюсь – я уже старый безумец. Дальше, если пожелаешь, поедешь потом один.
Я начал объяснения, демонстрируя машину. При этом я заметил, что клаксон пострадал незначительно и что поправить его ничего не стоило. Два винтика и кусок железной проволоки вернули ему оглушительный голос. Лерн, слушая клаксон, проявлял признаки наивного восторга. Я стал продолжать свою лекцию, и дядюшка, по мере того как я говорил, слушал все увлеченнее.
И в самом деле, автомобили вполне заслуживают самого серьезного интереса. Если в течение трех последних лет моторы изменились мало, то остальные части автомобиля и материал, из которого он изготовлен, были значительно усовершенствованы. Для постройки, например, моей машины, весь груз которой заключался в запасных баках с бензином, не было употреблено ни кусочка дерева. Моя восьмидесятисильная машина представляла собой замечательную мастерскую для поглощения пространства, построенную целиком из меди, стали, никеля и алюминия. Великое изобретение нашей эпохи было к ней применено; я говорю о том, что она покоилась не на пневматических, а на рессорных колесах, удивительно эластичных. Сегодня это кажется обыденным явлением, но еще совсем недавно это новшество возбуждало всеобщее изумление.
Но самым замечательным в моей машине было, на мой взгляд, то усовершенствование, которого конструкторы добились настолько постепенно, что никто и не замечает, как оно изо дня в день становится все более востребованным, а именно – автоматизм.
Первая «коляска без лошадей» была загромождена рычагами, педалями, рукоятками и воланами, необходимыми, чтобы управлять ею; кранами и аппаратами для смазывания, без которых мотор не мог работать. Но с каждым новым поколением автомобилей они все больше и больше упрощались. Мало-помалу исчезли все рукоятки, требовавшие постоянного и многообразного вмешательства человека. В наши дни органы автомобиля сделались автоматическими и механизм регулируется механизмом. Теперь шофер, в сущности говоря, кормчий: раз машина пущена в ход, она сама влечет себя вперед; разбуженная, она снова заснет только по приказанию. Словом, как заметил Лерн, современный автомобиль обладает всеми свойствами спинного мозга: инстинктом и рефлексами. В нем происходят произвольные движения наряду с движениями, вызванными разумом проводника, который становится, так сказать, мозгом автомобиля. Из этого центра идут распоряжения желаемого маневрирования, которые передаются по металлическим нервам – стальным мускулам.
– К тому же, – добавил дядюшка, – сходство между этой коляской и позвоночным животным просто потрясающее.
Тут Лерн вступал в свою знакомую область. Я весь обратился в слух. Он продолжал:
– Мы уже нашли нервную и мышечную систему – их представляют рычаги управления, передачи и ускорения. Но, Николя, разве шасси не уподобляется скелету человека, к которому болты прикрепляются так же, как сухожилия… Жизненная сила, кровь – это бензин, циркулирующий по медным артериям… Карбюратор дышит – это легкое: вместо того чтобы снабжать кровь кислородом, он распыляет эссенцию, вот и все… Капот похож на грудную клетку, в которой ритмично бьется сердце… Наши сочленения так же помещаются в жидкости, как и машинные в масле… А вот и защищенные крышкой-кожей резервуары, так же требующие пищи и насыщающиеся, как и желудок… Вот фосфоресцирующие, как у диких зверей, но пока еще не обладающие даром зрения глаза-фары; клаксон – это голос; вот выводная трубка, которую я, пожалуй, не буду ни с чем сравнивать, чтобы не задеть твоих чувств… Словом, чтобы сделаться большим, глухим, бесчувственным и бесплодным зверем, лишенным вкуса и обоняния, твоей машине недостает только мозга, роль которого порой исполняет твой.
– Настоящий музей увечий и недугов! – заметил я, расхохотавшись.
– Хм, – пробормотал Лерн. – Автомобиль, кстати, приспособлен лучше нас. Подумай об этой воде, которая охлаждает его: какое прекрасное средство от лихорадки… А сколько лет может держаться такая оболочка, если организовать за ней надлежащий уход, – ее ведь можно чинить без конца… Автомобиль всегда можно вылечить; разве ты только что не вернул голос его глотке? С такой же легкостью ты мог бы заменить и его глаза.
Профессор распалялся все больше и больше.
– Это могучее и грозное тело! – воскликнул он. – Но тело, которое позволяет себя надеть; это доспехи, обладатель которых чувствует себя защищенным; это броня, увеличивающая силу и быстроту. Да что там говорить – в этой броне вы словно марсиане Уэллса в их треножных цилиндрах; вы теперь – головной мозг какого-то искусственного, колоссального монстра!
– В сущности, дядюшка, все машины такими являются.
– Нет! Не в столь полной мере. За исключением внешнего вида – которому и близко не соответствует ни одно животное, – автомобиль представляет собой самый удачный из всех автоматов. Он точнее сделан по нашему подобию, чем любой похожий на живых людей заводной манекен Мельцеля или Вокансона, потому что те под человеческой оболочкой скрывают заводную куклу, с которой нельзя поставить на одну доску даже организм улитки. Тогда как автомобиль…
Он отошел на несколько шагов и, окинув машину нежным взглядом, воскликнул:
– Восхитительное создание! До чего же велик человеческий гений!
«Да, – подумал я, – в акте творения кроется совсем иная красота, чем в твоих зловещих смешениях живого тела и плоти с бесчувственным деревом. Но в любом случае хорошо уже то, что ты готов это признать!»
* * *
Хотя было уже довольно поздно, я все же поехал в Грей-л’Аббей, чтобы пополнить запасы бензина, и хотя Лерн и был большим рутинером, но он до того увлекся автомобилем, что решился переступить через традиционную границу своих прогулок и сопровождал меня.
Затем мы направились обратно в Фонваль.
Дядюшка, увлекшись, как всякий новичок, все время нагибался вперед и ощупывал железную покрышку мотора, потом он разобрал автоматическую масленку. В то же время он задавал мне бездну вопросов, и мне пришлось посвятить его во все мельчайшие подробности устройства моей машины; все это он усваивал с невероятной быстротой и точностью.
– Слушай, Николя, включи-ка клаксон… Теперь скинь скорость… остановись… поезжай снова… быстрее… Довольно! Притормози… теперь задний ход… Стой!.. Право же, это просто поразительно!
Он смеялся от восторга, вечно надутое лицо похорошело. Любой, кто увидел бы нас, принял бы за двух задушевных друзей. Возможно, в тот момент мы таковыми и были… Я уже предвкушал тот час, когда благодаря моему авто с ковшеобразными сиденьями Лерн, быть может, откроет мне свои тайны.
Он сохранил свое прекрасное расположение духа до самого приезда в замок; соседство таинственных зданий нисколько его не смущало; настроение его переменилось только тогда, когда он вошел в столовую. Тут Лерн вдруг нахмурился: появилась Эмма. Мне показалось, будто муж тетушки Лидивины испарился вместе с дядюшкиной улыбкой, а его место занял старый сварливый профессор, недовольный нашим присутствием. Тогда я почувствовал, как мало значат для него все его будущие открытия в сравнении с этой очаровательной женщиной, и если он стремился к славе и богатству, то только для того, чтобы иметь возможность удержать ее около себя.
Наверное, он ее любил такой же любовью, как и я: как испытывают голод и жажду – голод кожи и жажду тела. Он был скорее гурман, я же был голоднее – вот и вся разница между нами.
Да ну же, будем откровенны! Вы, Эльвира, вы, Беатриче, идеальные возлюбленные; сначала вы внушали лишь страсть. До того как писать в вашу честь стихи, вас просто желали, без всякой литературы, как… к чему искать лицемерные метафоры – как чечевичную похлебку или стакан чистой воды… Но для вас создали гармоничные рифмы, потому что вы сумели сделаться обожаемыми подругами, и с тех пор вас окружили этой утонченной нежностью, которая является вершиной нашего чувства, нашей восхитительной поправкой творения. Конечно, Лерн прав: человеческий гений велик. Но любовь человека доказывает это гораздо лучше, чем построенные им машины. Любовь – это очаровательно двойственный цветок, лучшая и самая удачная прививка сада нашей души, тонко сделанная и благоухающая искусно смягченным ароматом.
Вот… Но мы с Лерном увлеклись не таким цветком, а тем простым и безыскусственным, который является аллегорическим изображением продолжения рода человеческого. Единственная причина его существования – это плод, который он готовит. Его резкий, опьянявший нас запах был благовонным ядом, напоенным сладострастием и ревностью, в которой чувствуешь меньше любви к женщине, чем ненависти ко всем остальным мужчинам.
* * *
Барб приходила и уходила, прислуживая за столом черт знает как. Мы все молчали. Я избегал смотреть на очаровательную Эмму, убежденный, что мои взгляды были бы до того похожи на поцелуи, что это не могло бы укрыться от дядюшкиных глаз.
Она была теперь совершенно спокойна и рисовалась своим равнодушием; опершись голыми локтями на стол, положив голову на руки, она рассматривала в окно пастбище, на котором мычали коровы.
Мне хотелось бы по крайней мере смотреть на то же, на что смотрела моя возлюбленная; это сентиментальное общение на расстоянии утишило бы, как мне казалось, мое низменное стремление к более интимным встречам.
К несчастью, из моего окна не было видно пастбища, и мои глаза, блуждая без определенной цели, все время, помимо моей воли, останавливались на ее белых голых руках и колышущемся корсаже, трепетавшем сильнее, чем следовало бы.
Сильнее, чем следовало бы!
В то время как я объяснял это явление в свою пользу, Лерн в угрюмом молчании встал из-за стола.
Отодвинувшись, чтобы пропустить Эмму, которая, проходя, слегка задела меня, я почувствовал, что она вся дрожит; ноздри ее носа трепетали. Меня охватил прилив неудержимой радости. Разве можно было еще сомневаться, что я задел какие-то струны ее души?
Когда мы проходили мимо окна, Лерн похлопал меня по плечу и тихо произнес дрожащим от сдерживаемого смеха голосом – думаю, так в свое время говорили сатиры:
– Ха! Юпитер снова принялся за свое.
И он указал на быка, стоявшего посреди пастбища в возбужденном состоянии в окружении своего гарема.
* * *
В гостиной к дядюшке опять вернулось его отвратительное настроение. Он приказал Эмме отправиться в свою комнату, а мне, дав несколько книжек, категоричным тоном посоветовал пойти почитать в тени леса.
Мне оставалось лишь подчиниться.
«В конечном счете, – подумал я, призвав себя к повиновению, – если кто из нас и заслуживает жалости, то именно он».
* * *
То, что произошло следующей ночью, доказало, что это не совсем так, и значительно умерило мое чувство жалости к нему.
Случившееся расстроило меня тем более, что далеко не способствовало разъяснению тайны, а наоборот, само по себе казалось необъяснимым.
Вот в чем дело.
Я заснул спокойным сном, убаюканный мечтами об Эмме и радужными надеждами на успех. Но вместо забавных и легкомысленных снов мне привиделись нелепости предыдущей ночи: ревущие и лающие растения. Шум терзал меня во сне все сильнее; наконец гам сделался до того нестерпимым и казался до того реалистичным, что я вдруг проснулся.
Я горел и был весь в поту. В ушах продолжали звучать отголоски услышанного во сне пронзительного крика. Я слышал его не впервые… нет… я уже слышал его, этот крик… тогда… когда я ночевал в лабиринте… тогда он доносился издали… со стороны Фонваля…
Я приподнялся на руках. Комната была залита лунным светом. Все было тихо. Только мерное тиканье маятника часов равномерно нарушало тишину. Я опустил голову на подушку…
– Остановимся здесь, если ты не против. Объясни мне принцип работы этой машины – она просто чудесная. Дальше этого места я не выбираюсь – я уже старый безумец. Дальше, если пожелаешь, поедешь потом один.
Я начал объяснения, демонстрируя машину. При этом я заметил, что клаксон пострадал незначительно и что поправить его ничего не стоило. Два винтика и кусок железной проволоки вернули ему оглушительный голос. Лерн, слушая клаксон, проявлял признаки наивного восторга. Я стал продолжать свою лекцию, и дядюшка, по мере того как я говорил, слушал все увлеченнее.
И в самом деле, автомобили вполне заслуживают самого серьезного интереса. Если в течение трех последних лет моторы изменились мало, то остальные части автомобиля и материал, из которого он изготовлен, были значительно усовершенствованы. Для постройки, например, моей машины, весь груз которой заключался в запасных баках с бензином, не было употреблено ни кусочка дерева. Моя восьмидесятисильная машина представляла собой замечательную мастерскую для поглощения пространства, построенную целиком из меди, стали, никеля и алюминия. Великое изобретение нашей эпохи было к ней применено; я говорю о том, что она покоилась не на пневматических, а на рессорных колесах, удивительно эластичных. Сегодня это кажется обыденным явлением, но еще совсем недавно это новшество возбуждало всеобщее изумление.
Но самым замечательным в моей машине было, на мой взгляд, то усовершенствование, которого конструкторы добились настолько постепенно, что никто и не замечает, как оно изо дня в день становится все более востребованным, а именно – автоматизм.
Первая «коляска без лошадей» была загромождена рычагами, педалями, рукоятками и воланами, необходимыми, чтобы управлять ею; кранами и аппаратами для смазывания, без которых мотор не мог работать. Но с каждым новым поколением автомобилей они все больше и больше упрощались. Мало-помалу исчезли все рукоятки, требовавшие постоянного и многообразного вмешательства человека. В наши дни органы автомобиля сделались автоматическими и механизм регулируется механизмом. Теперь шофер, в сущности говоря, кормчий: раз машина пущена в ход, она сама влечет себя вперед; разбуженная, она снова заснет только по приказанию. Словом, как заметил Лерн, современный автомобиль обладает всеми свойствами спинного мозга: инстинктом и рефлексами. В нем происходят произвольные движения наряду с движениями, вызванными разумом проводника, который становится, так сказать, мозгом автомобиля. Из этого центра идут распоряжения желаемого маневрирования, которые передаются по металлическим нервам – стальным мускулам.
– К тому же, – добавил дядюшка, – сходство между этой коляской и позвоночным животным просто потрясающее.
Тут Лерн вступал в свою знакомую область. Я весь обратился в слух. Он продолжал:
– Мы уже нашли нервную и мышечную систему – их представляют рычаги управления, передачи и ускорения. Но, Николя, разве шасси не уподобляется скелету человека, к которому болты прикрепляются так же, как сухожилия… Жизненная сила, кровь – это бензин, циркулирующий по медным артериям… Карбюратор дышит – это легкое: вместо того чтобы снабжать кровь кислородом, он распыляет эссенцию, вот и все… Капот похож на грудную клетку, в которой ритмично бьется сердце… Наши сочленения так же помещаются в жидкости, как и машинные в масле… А вот и защищенные крышкой-кожей резервуары, так же требующие пищи и насыщающиеся, как и желудок… Вот фосфоресцирующие, как у диких зверей, но пока еще не обладающие даром зрения глаза-фары; клаксон – это голос; вот выводная трубка, которую я, пожалуй, не буду ни с чем сравнивать, чтобы не задеть твоих чувств… Словом, чтобы сделаться большим, глухим, бесчувственным и бесплодным зверем, лишенным вкуса и обоняния, твоей машине недостает только мозга, роль которого порой исполняет твой.
– Настоящий музей увечий и недугов! – заметил я, расхохотавшись.
– Хм, – пробормотал Лерн. – Автомобиль, кстати, приспособлен лучше нас. Подумай об этой воде, которая охлаждает его: какое прекрасное средство от лихорадки… А сколько лет может держаться такая оболочка, если организовать за ней надлежащий уход, – ее ведь можно чинить без конца… Автомобиль всегда можно вылечить; разве ты только что не вернул голос его глотке? С такой же легкостью ты мог бы заменить и его глаза.
Профессор распалялся все больше и больше.
– Это могучее и грозное тело! – воскликнул он. – Но тело, которое позволяет себя надеть; это доспехи, обладатель которых чувствует себя защищенным; это броня, увеличивающая силу и быстроту. Да что там говорить – в этой броне вы словно марсиане Уэллса в их треножных цилиндрах; вы теперь – головной мозг какого-то искусственного, колоссального монстра!
– В сущности, дядюшка, все машины такими являются.
– Нет! Не в столь полной мере. За исключением внешнего вида – которому и близко не соответствует ни одно животное, – автомобиль представляет собой самый удачный из всех автоматов. Он точнее сделан по нашему подобию, чем любой похожий на живых людей заводной манекен Мельцеля или Вокансона, потому что те под человеческой оболочкой скрывают заводную куклу, с которой нельзя поставить на одну доску даже организм улитки. Тогда как автомобиль…
Он отошел на несколько шагов и, окинув машину нежным взглядом, воскликнул:
– Восхитительное создание! До чего же велик человеческий гений!
«Да, – подумал я, – в акте творения кроется совсем иная красота, чем в твоих зловещих смешениях живого тела и плоти с бесчувственным деревом. Но в любом случае хорошо уже то, что ты готов это признать!»
* * *
Хотя было уже довольно поздно, я все же поехал в Грей-л’Аббей, чтобы пополнить запасы бензина, и хотя Лерн и был большим рутинером, но он до того увлекся автомобилем, что решился переступить через традиционную границу своих прогулок и сопровождал меня.
Затем мы направились обратно в Фонваль.
Дядюшка, увлекшись, как всякий новичок, все время нагибался вперед и ощупывал железную покрышку мотора, потом он разобрал автоматическую масленку. В то же время он задавал мне бездну вопросов, и мне пришлось посвятить его во все мельчайшие подробности устройства моей машины; все это он усваивал с невероятной быстротой и точностью.
– Слушай, Николя, включи-ка клаксон… Теперь скинь скорость… остановись… поезжай снова… быстрее… Довольно! Притормози… теперь задний ход… Стой!.. Право же, это просто поразительно!
Он смеялся от восторга, вечно надутое лицо похорошело. Любой, кто увидел бы нас, принял бы за двух задушевных друзей. Возможно, в тот момент мы таковыми и были… Я уже предвкушал тот час, когда благодаря моему авто с ковшеобразными сиденьями Лерн, быть может, откроет мне свои тайны.
Он сохранил свое прекрасное расположение духа до самого приезда в замок; соседство таинственных зданий нисколько его не смущало; настроение его переменилось только тогда, когда он вошел в столовую. Тут Лерн вдруг нахмурился: появилась Эмма. Мне показалось, будто муж тетушки Лидивины испарился вместе с дядюшкиной улыбкой, а его место занял старый сварливый профессор, недовольный нашим присутствием. Тогда я почувствовал, как мало значат для него все его будущие открытия в сравнении с этой очаровательной женщиной, и если он стремился к славе и богатству, то только для того, чтобы иметь возможность удержать ее около себя.
Наверное, он ее любил такой же любовью, как и я: как испытывают голод и жажду – голод кожи и жажду тела. Он был скорее гурман, я же был голоднее – вот и вся разница между нами.
Да ну же, будем откровенны! Вы, Эльвира, вы, Беатриче, идеальные возлюбленные; сначала вы внушали лишь страсть. До того как писать в вашу честь стихи, вас просто желали, без всякой литературы, как… к чему искать лицемерные метафоры – как чечевичную похлебку или стакан чистой воды… Но для вас создали гармоничные рифмы, потому что вы сумели сделаться обожаемыми подругами, и с тех пор вас окружили этой утонченной нежностью, которая является вершиной нашего чувства, нашей восхитительной поправкой творения. Конечно, Лерн прав: человеческий гений велик. Но любовь человека доказывает это гораздо лучше, чем построенные им машины. Любовь – это очаровательно двойственный цветок, лучшая и самая удачная прививка сада нашей души, тонко сделанная и благоухающая искусно смягченным ароматом.
Вот… Но мы с Лерном увлеклись не таким цветком, а тем простым и безыскусственным, который является аллегорическим изображением продолжения рода человеческого. Единственная причина его существования – это плод, который он готовит. Его резкий, опьянявший нас запах был благовонным ядом, напоенным сладострастием и ревностью, в которой чувствуешь меньше любви к женщине, чем ненависти ко всем остальным мужчинам.
* * *
Барб приходила и уходила, прислуживая за столом черт знает как. Мы все молчали. Я избегал смотреть на очаровательную Эмму, убежденный, что мои взгляды были бы до того похожи на поцелуи, что это не могло бы укрыться от дядюшкиных глаз.
Она была теперь совершенно спокойна и рисовалась своим равнодушием; опершись голыми локтями на стол, положив голову на руки, она рассматривала в окно пастбище, на котором мычали коровы.
Мне хотелось бы по крайней мере смотреть на то же, на что смотрела моя возлюбленная; это сентиментальное общение на расстоянии утишило бы, как мне казалось, мое низменное стремление к более интимным встречам.
К несчастью, из моего окна не было видно пастбища, и мои глаза, блуждая без определенной цели, все время, помимо моей воли, останавливались на ее белых голых руках и колышущемся корсаже, трепетавшем сильнее, чем следовало бы.
Сильнее, чем следовало бы!
В то время как я объяснял это явление в свою пользу, Лерн в угрюмом молчании встал из-за стола.
Отодвинувшись, чтобы пропустить Эмму, которая, проходя, слегка задела меня, я почувствовал, что она вся дрожит; ноздри ее носа трепетали. Меня охватил прилив неудержимой радости. Разве можно было еще сомневаться, что я задел какие-то струны ее души?
Когда мы проходили мимо окна, Лерн похлопал меня по плечу и тихо произнес дрожащим от сдерживаемого смеха голосом – думаю, так в свое время говорили сатиры:
– Ха! Юпитер снова принялся за свое.
И он указал на быка, стоявшего посреди пастбища в возбужденном состоянии в окружении своего гарема.
* * *
В гостиной к дядюшке опять вернулось его отвратительное настроение. Он приказал Эмме отправиться в свою комнату, а мне, дав несколько книжек, категоричным тоном посоветовал пойти почитать в тени леса.
Мне оставалось лишь подчиниться.
«В конечном счете, – подумал я, призвав себя к повиновению, – если кто из нас и заслуживает жалости, то именно он».
* * *
То, что произошло следующей ночью, доказало, что это не совсем так, и значительно умерило мое чувство жалости к нему.
Случившееся расстроило меня тем более, что далеко не способствовало разъяснению тайны, а наоборот, само по себе казалось необъяснимым.
Вот в чем дело.
Я заснул спокойным сном, убаюканный мечтами об Эмме и радужными надеждами на успех. Но вместо забавных и легкомысленных снов мне привиделись нелепости предыдущей ночи: ревущие и лающие растения. Шум терзал меня во сне все сильнее; наконец гам сделался до того нестерпимым и казался до того реалистичным, что я вдруг проснулся.
Я горел и был весь в поту. В ушах продолжали звучать отголоски услышанного во сне пронзительного крика. Я слышал его не впервые… нет… я уже слышал его, этот крик… тогда… когда я ночевал в лабиринте… тогда он доносился издали… со стороны Фонваля…
Я приподнялся на руках. Комната была залита лунным светом. Все было тихо. Только мерное тиканье маятника часов равномерно нарушало тишину. Я опустил голову на подушку…