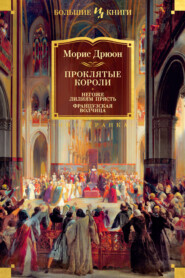По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проклятые короли: Лилия и лев. Когда король губит Францию
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы всегда голосу разума внимаем, – говаривал он в тех случаях, когда не знал, какое следует принять решение.
А если он ошибался, что случалось с ним частенько, и вынужден был отменять то, что приказал сделать накануне, он самоуверенно заявлял:
– Наиразумнейше менять собственные свои решения.
Во всех случаях лучше упредить, чем упрежденну быть, – высокопарно изрекал сей король, который в течение всех двадцати двух лет своего правления без конца сталкивался с неожиданностями, одна плачевнее другой.
Никогда еще ни один монарх не наболтал в своей жизни столько пошлостей и с таким многозначительным видом. Кругом считали, что он мыслит, а на самом деле он думал о том, какое бы изречение ему сейчас высказать, дабы создалось впечатление, будто он и впрямь размышлял, но голова у него была пустая, как высохший орех.
Король, настоящий король, – не забыть бы главного – должен быть доблестным и храбрым и жить в роскоши! На самом-то деле Филипп имел лишь один талант – отменно владел оружием. Нет, не на войне, а просто в турнирных состязаниях на копьях и мечах. В качестве наставника молодых рыцарей он был бы, что называется, незаменим при дворе какого-нибудь барончика. Но коль скоро он стал владыкой Франции, его королевское жилище напоминало замок из романов о рыцарях Круглого стола, которыми зачитывались в ту эпоху и которыми была забита его голова. Турнир за турниром, празднества, пиры, охота, различные увеселения, а потом снова турниры, целые леса страусовых перьев на шлемах, и кони, убранные богаче, чем придворные дамы.
Филипп весьма усердно занимался делами государственными, отводя им ровно час в день после очередного состязания, откуда он возвращался весь в поту, или очередного пиршества, откуда он возвращался с набитым брюхом и сильно затуманенной головой. Его канцлер, королевский казначей, многочисленные сановники принимали решения за него или шли за приказаниями к Роберу Артуа. А тот и впрямь тратил на управление страной больше времени и сил, нежели сам король.
При любом затруднении Филипп вызывал к себе Робера для совета, и поэтому все безоговорочно повиновались графу Артуа, зная, что любое его распоряжение будет одобрено королем.
Так дело и шло, и наконец весь двор отправился на коронование, где архиепископ Гийом де Три должен был возложить корону на главу бывшего своего питомца. Праздник, пришедшийся на конец мая, длился целых пять дней.
Казалось, все королевство собралось в Реймсе. Да и не только королевство, но также и половина Европы, в том числе великолепный и полностью обнищавший король Богемии Иоганн, граф Вильгельм Геннегау, маркиз Намюрский и герцог Лотарингский. Целых пять дней увеселений и пирушек – про такое изобилие и про такие траты реймские горожане еще никогда и не слыхивали. Они, которым пришлось покрыть все расходы на устройство празднеств, они, которые брюзжали по поводу непомерных затрат на последние коронования, на сей раз с дорогой душой доставляли все в двойных, тройных количествах. Впервые за последнюю сотню лет во Французском королевстве было выпито столько – вино и еду развозили на лошадях по дворам и площадям.
Накануне коронования король с превеликой помпой посвятил в рыцари Людовика де Креси, графа Фландрского и Неверского. Решено было, что меч Карла Великого во время торжественной церемонии коронования будет держать граф Фландрский и затем передаст его новому монарху. Все руками развели, как это коннетабль согласился столь безропотно отказаться от обряда, который по установленной традиции выполнял именно он. Да еще пришлось посвятить для этого графа Фландрского в рыцари. Но мог ли Филипп VI с большим размахом засвидетельствовать перед всем светом, какую горячую дружбу питает он к своему фландрскому родичу?
А на следующий день, когда в соборе уже шла торжественная церемония, когда главный королевский камергер Людовик Бурбон уже обул Филиппа в сапожки, расшитые королевскими лилиями, после чего крикнул графа Фландрского, которому полагалось подать меч, тот даже не шелохнулся.
– Мессир граф Фландрский, – повторил Людовик Бурбон.
И по-прежнему Людовик де Креси не тронулся с места и стоял со скрещенными на груди руками.
– Мессир граф Фландрский, – снова поднял голос герцог Бурбон, – ежели вы присутствуете здесь или кто-то уполномочен присутствовать здесь от вашего имени, соблаговолите выполнить долг ваш, иначе вы нарушите его.
Под сводами собора застыла мертвая тишина, прелаты, бароны и сановники переглядывались с испуганно-удивленным видом; один лишь король даже бровью не повел, да Робер Артуа, сопя, закинул голову вверх, будто его вдруг ужасно заинтересовала игра лучей, пробивавшихся сквозь витражи.
Наконец граф Фландрский соблаговолил выступить вперед, приблизился к королю и, склонившись перед ним, проговорил:
– Сир, ежели бы кликнули графа Неверского или графа де Креси, я немедленно подошел бы к вам.
– Но почему же, мессир, почему? – спросил Филипп VI. – Разве вы не граф Фландрский?
– Сир, по титулу граф, но пока что я не извлек из этого ровно никакой пользы.
Вот тут-то Филипп VI и принял самый что ни на есть королевский вид, выпятил грудь, оглядел собор смутным взглядом и, нацелившись своим внушительным носом на собеседника, изрек хладнокровным тоном:
– Что вы такое говорите, кузен?
– Сир, – ответствовал граф, – жители Брюгге, Ипра, Поперинга и Касселя выдворили меня прочь из моих ленных владений и не считают меня более ни своим графом, ни своим сеньором, хорошо еще, что мне, преодолев многие трудности, удалось бежать в Гент, ибо весь край охвачен мятежом…
Тут Филипп Валуа пристукнул своей огромной ладонью по подлокотнику трона – жест этот он не раз замечал у Филиппа Красивого и сейчас повторил его бессознательно, ибо в глазах его покойный дядя был подлинным воплощением величия.
– Людовик, дражайший мой кузен, – произнес он раздельно и звучно, – для нас вы граф Фландрский, и клянусь святым помазанием и великим таинством, свершающимся ныне, не знать ни отдыха, ни срока, пока мы не вручим вам в полное владение ваше графство.
Граф Фландрский преклонил перед королем колено.
– От всей души благодарю вас, сир.
И церемониал пошел обычным порядком.
Робер Артуа многозначительно подмигнул своим соседям, давая им понять, что вся эта якобы непредвиденная заминка была задумана заранее. Филипп VI сдержал свои обещания, данные им через Робера при вербовке сторонников. В тот же день Филипп д’Эврё появился в мантии, украшенной гербами короля Наварры.
Сразу же после коронования Филипп VI собрал пэров и баронов, принцев королевской крови, иноземных сеньоров, прибывших на церемонию миропомазания, и так, словно бы дело не терпит даже минуты задержки, установил вместе с ними точный день, когда начнется усмирение фландрских мятежников. Священный долг каждого доблестного государя – защищать права своих вассалов! Кое-кто из людей осмотрительных, здраво рассудив, что весна уже кончается и что войско будет собрано лишь к осени, то есть в самый разгар дождей, – они до сих пор не забыли «грязевого похода», затеянного Людовиком Сварливым, – присоветовал государю отложить экспедицию на год. Но старик коннетабль Гоше пристыдил их и крикнул трубным своим голосом:
– Для того, кому по сердцу бранные труды, погода всегда подходящая!
Ему уже стукнуло семьдесят восемь, и он недаром поэтому так торопился возглавить последнюю свою кампанию и, надеясь перехитрить судьбу, согласился на то, чтобы не он лично, а граф Фландрский вручил королю меч Карла Великого.
– Да и англичанишки, которые мутят воду в этом краю, получат неплохой урок, – проворчал коннетабль в заключение.
Разве не читали все собравшиеся здесь, под сводами Реймского собора, в рыцарских романах повествование о подвигах восьмидесятилетних героев, опрокидывающих в честном бою неприятеля и способных раскроить ему мечом шлем, да и череп заодно? Неужели бароны уступят в отваге этому старцу, этому заслуженному воину, которому не терпится отправиться в поход вместе со своим шестым королем?
Поднявшись с трона, Филипп Валуа возгласил:
– Кто любит меня, пойдет за мной!
Среди единодушного восторженного ликования, вызванного этими словами, решено было начать поход в конце июля и как бы случайно начать с Арраса. Таким образом, Робер, воспользовавшись подходящим случаем, сумеет расшевелить графство своей тетушки Маго.
И действительно, в начале августа французы вошли во Фландрию.
Некий горожанин по имени Заннекен имел под командой пятнадцать тысяч человек – ополченцев Вёрне, Дисмейдена, Поперинга и Касселя. Желая показать, что, мол, и ему ведомы воинские обычаи, он послал картель королю Франции, где просил назначить день битвы. Но Филипп пренебрег этим картелем, равно как и этим мужланом, который смеет корчить из себя принца крови, и повелел ответить фламандцам, что, коль скоро у них нет военачальника, пусть защищаются как могут и как хотят. Вслед за чем отрядил двух маршалов – Матье де Три и Робера Бертрана, прозванного Рыцарем Зеленого Льва, – с приказом предать огню окрестности Брюгге.
Когда маршалы вернулись после этой военной операции, их встретили кликами восторга: каждому радостно было полюбоваться зрелищем полыхающих вдали нищенских домишек. А рыцари в богатом одеянии, даже не при оружии, переходили от шатра к шатру, с аппетитом вкушали яства под расшитыми золотом знаменами и играли со своими приближенными в шахматы. Французский лагерь и впрямь походил на лагерь короля Артура, каким изображается он в книжках с картинками, и каждый барон отождествлял себя кто с Ланселотом, кто с Гектором, а кто с Галаадом.
Но случилось так, что, когда наш доблестный монарх, предпочитавший, по собственным его словам, упреждать, чем упрежденну быть, весело пировал в компании приближенных, в лагерь ворвалось пятнадцать тысяч фламандцев. Они потрясали знаменами, на которых был изображен петух, а под ним красовалась дерзкая надпись:
Когда сей кочет запоет,
«Король-подкидыш» Фландрию возьмет.
В течение нескольких минут они разграбили добрую половину французского лагеря, перерезали веревки, державшие шатры, сбрасывали наземь шахматные доски, опрокидывали пиршественные столы, а заодно порубили немало сеньоров.
Французская пехота обратилась в бегство – страх гнал ее без передышки вплоть до Сент-Омера, другими словами, целых сорок лье.
А король успел только накинуть на кольчугу плащ, украшенный гербами Франции, натянуть на голову шлем белой кожи и вскочить на своего боевого коня, дабы последовать примеру героев рыцарских романов.
В этой битве обе неприятельские стороны совершили непростительный промах, и обе в силу тщеславия. Французские рыцари презирали фламандское мужичье, а фламандцы, желая доказать, что, мол, и они настоящие воины и ничуть не уступают высокородным сеньорам, облеклись в воинские доспехи, но в атаку они пошли пешие!
Граф Геннегау и его брат Иоганн, чьи войска были расположены в стороне, первыми устремились на фламандцев с фланга и расстроили их атаку. Французские рыцари, поднятые в бой королем, наконец-то смогли обрушиться на вражескую пехоту, скованную в своих действиях тяжелыми, зато великолепными рыцарскими доспехами, опрокинуть ее, топтать копытами своих мощных боевых коней, крушить и убивать. Эти благородные Ланселоты и Галаады, впрочем, только налетали на своих противников и оглушали их, предоставляя храбрым оруженосцам приканчивать побежденных ударом кинжала. Того, кто пытался бежать, сметала конница; тому, кто пытался сдаться на милость победителя, тут же перерезали глотку. В тот день полегло тринадцать тысяч фламандцев, и на поле боя высилась воистину сказочная груда железа и трупов, и к чему бы ни прикоснулась человеческая рука – к траве ли, к упряжи ли, к человеку или животному, – она окрашивалась алой кровью.
Битва при Касселе, начавшаяся беспорядочным бегством, окончилась полной победой Франции. О ней уже говорили как о новой битве при Бувине.
А ведь истинным победителем был не король, не старый коннетабль Гоше, не Робер Артуа, с какой бы отвагой они, подобно горному обвалу, ни обрушивались на вражеские ряды. Французов спас граф Вильгельм Геннегау. Но всю славу пожал его шурин – Филипп VI.
Столь могущественный владыка, как Филипп, теперь уже не мог терпеть ни малейшего нарушения традиционного выражения покорности со стороны своих вассалов. Поэтому английскому королю, герцогу Гиеньскому, было незамедлительно отправлено послание с требованием прибыть во Францию и принести вассальную присягу верности, да не мешкать по-пустому.
А если он ошибался, что случалось с ним частенько, и вынужден был отменять то, что приказал сделать накануне, он самоуверенно заявлял:
– Наиразумнейше менять собственные свои решения.
Во всех случаях лучше упредить, чем упрежденну быть, – высокопарно изрекал сей король, который в течение всех двадцати двух лет своего правления без конца сталкивался с неожиданностями, одна плачевнее другой.
Никогда еще ни один монарх не наболтал в своей жизни столько пошлостей и с таким многозначительным видом. Кругом считали, что он мыслит, а на самом деле он думал о том, какое бы изречение ему сейчас высказать, дабы создалось впечатление, будто он и впрямь размышлял, но голова у него была пустая, как высохший орех.
Король, настоящий король, – не забыть бы главного – должен быть доблестным и храбрым и жить в роскоши! На самом-то деле Филипп имел лишь один талант – отменно владел оружием. Нет, не на войне, а просто в турнирных состязаниях на копьях и мечах. В качестве наставника молодых рыцарей он был бы, что называется, незаменим при дворе какого-нибудь барончика. Но коль скоро он стал владыкой Франции, его королевское жилище напоминало замок из романов о рыцарях Круглого стола, которыми зачитывались в ту эпоху и которыми была забита его голова. Турнир за турниром, празднества, пиры, охота, различные увеселения, а потом снова турниры, целые леса страусовых перьев на шлемах, и кони, убранные богаче, чем придворные дамы.
Филипп весьма усердно занимался делами государственными, отводя им ровно час в день после очередного состязания, откуда он возвращался весь в поту, или очередного пиршества, откуда он возвращался с набитым брюхом и сильно затуманенной головой. Его канцлер, королевский казначей, многочисленные сановники принимали решения за него или шли за приказаниями к Роберу Артуа. А тот и впрямь тратил на управление страной больше времени и сил, нежели сам король.
При любом затруднении Филипп вызывал к себе Робера для совета, и поэтому все безоговорочно повиновались графу Артуа, зная, что любое его распоряжение будет одобрено королем.
Так дело и шло, и наконец весь двор отправился на коронование, где архиепископ Гийом де Три должен был возложить корону на главу бывшего своего питомца. Праздник, пришедшийся на конец мая, длился целых пять дней.
Казалось, все королевство собралось в Реймсе. Да и не только королевство, но также и половина Европы, в том числе великолепный и полностью обнищавший король Богемии Иоганн, граф Вильгельм Геннегау, маркиз Намюрский и герцог Лотарингский. Целых пять дней увеселений и пирушек – про такое изобилие и про такие траты реймские горожане еще никогда и не слыхивали. Они, которым пришлось покрыть все расходы на устройство празднеств, они, которые брюзжали по поводу непомерных затрат на последние коронования, на сей раз с дорогой душой доставляли все в двойных, тройных количествах. Впервые за последнюю сотню лет во Французском королевстве было выпито столько – вино и еду развозили на лошадях по дворам и площадям.
Накануне коронования король с превеликой помпой посвятил в рыцари Людовика де Креси, графа Фландрского и Неверского. Решено было, что меч Карла Великого во время торжественной церемонии коронования будет держать граф Фландрский и затем передаст его новому монарху. Все руками развели, как это коннетабль согласился столь безропотно отказаться от обряда, который по установленной традиции выполнял именно он. Да еще пришлось посвятить для этого графа Фландрского в рыцари. Но мог ли Филипп VI с большим размахом засвидетельствовать перед всем светом, какую горячую дружбу питает он к своему фландрскому родичу?
А на следующий день, когда в соборе уже шла торжественная церемония, когда главный королевский камергер Людовик Бурбон уже обул Филиппа в сапожки, расшитые королевскими лилиями, после чего крикнул графа Фландрского, которому полагалось подать меч, тот даже не шелохнулся.
– Мессир граф Фландрский, – повторил Людовик Бурбон.
И по-прежнему Людовик де Креси не тронулся с места и стоял со скрещенными на груди руками.
– Мессир граф Фландрский, – снова поднял голос герцог Бурбон, – ежели вы присутствуете здесь или кто-то уполномочен присутствовать здесь от вашего имени, соблаговолите выполнить долг ваш, иначе вы нарушите его.
Под сводами собора застыла мертвая тишина, прелаты, бароны и сановники переглядывались с испуганно-удивленным видом; один лишь король даже бровью не повел, да Робер Артуа, сопя, закинул голову вверх, будто его вдруг ужасно заинтересовала игра лучей, пробивавшихся сквозь витражи.
Наконец граф Фландрский соблаговолил выступить вперед, приблизился к королю и, склонившись перед ним, проговорил:
– Сир, ежели бы кликнули графа Неверского или графа де Креси, я немедленно подошел бы к вам.
– Но почему же, мессир, почему? – спросил Филипп VI. – Разве вы не граф Фландрский?
– Сир, по титулу граф, но пока что я не извлек из этого ровно никакой пользы.
Вот тут-то Филипп VI и принял самый что ни на есть королевский вид, выпятил грудь, оглядел собор смутным взглядом и, нацелившись своим внушительным носом на собеседника, изрек хладнокровным тоном:
– Что вы такое говорите, кузен?
– Сир, – ответствовал граф, – жители Брюгге, Ипра, Поперинга и Касселя выдворили меня прочь из моих ленных владений и не считают меня более ни своим графом, ни своим сеньором, хорошо еще, что мне, преодолев многие трудности, удалось бежать в Гент, ибо весь край охвачен мятежом…
Тут Филипп Валуа пристукнул своей огромной ладонью по подлокотнику трона – жест этот он не раз замечал у Филиппа Красивого и сейчас повторил его бессознательно, ибо в глазах его покойный дядя был подлинным воплощением величия.
– Людовик, дражайший мой кузен, – произнес он раздельно и звучно, – для нас вы граф Фландрский, и клянусь святым помазанием и великим таинством, свершающимся ныне, не знать ни отдыха, ни срока, пока мы не вручим вам в полное владение ваше графство.
Граф Фландрский преклонил перед королем колено.
– От всей души благодарю вас, сир.
И церемониал пошел обычным порядком.
Робер Артуа многозначительно подмигнул своим соседям, давая им понять, что вся эта якобы непредвиденная заминка была задумана заранее. Филипп VI сдержал свои обещания, данные им через Робера при вербовке сторонников. В тот же день Филипп д’Эврё появился в мантии, украшенной гербами короля Наварры.
Сразу же после коронования Филипп VI собрал пэров и баронов, принцев королевской крови, иноземных сеньоров, прибывших на церемонию миропомазания, и так, словно бы дело не терпит даже минуты задержки, установил вместе с ними точный день, когда начнется усмирение фландрских мятежников. Священный долг каждого доблестного государя – защищать права своих вассалов! Кое-кто из людей осмотрительных, здраво рассудив, что весна уже кончается и что войско будет собрано лишь к осени, то есть в самый разгар дождей, – они до сих пор не забыли «грязевого похода», затеянного Людовиком Сварливым, – присоветовал государю отложить экспедицию на год. Но старик коннетабль Гоше пристыдил их и крикнул трубным своим голосом:
– Для того, кому по сердцу бранные труды, погода всегда подходящая!
Ему уже стукнуло семьдесят восемь, и он недаром поэтому так торопился возглавить последнюю свою кампанию и, надеясь перехитрить судьбу, согласился на то, чтобы не он лично, а граф Фландрский вручил королю меч Карла Великого.
– Да и англичанишки, которые мутят воду в этом краю, получат неплохой урок, – проворчал коннетабль в заключение.
Разве не читали все собравшиеся здесь, под сводами Реймского собора, в рыцарских романах повествование о подвигах восьмидесятилетних героев, опрокидывающих в честном бою неприятеля и способных раскроить ему мечом шлем, да и череп заодно? Неужели бароны уступят в отваге этому старцу, этому заслуженному воину, которому не терпится отправиться в поход вместе со своим шестым королем?
Поднявшись с трона, Филипп Валуа возгласил:
– Кто любит меня, пойдет за мной!
Среди единодушного восторженного ликования, вызванного этими словами, решено было начать поход в конце июля и как бы случайно начать с Арраса. Таким образом, Робер, воспользовавшись подходящим случаем, сумеет расшевелить графство своей тетушки Маго.
И действительно, в начале августа французы вошли во Фландрию.
Некий горожанин по имени Заннекен имел под командой пятнадцать тысяч человек – ополченцев Вёрне, Дисмейдена, Поперинга и Касселя. Желая показать, что, мол, и ему ведомы воинские обычаи, он послал картель королю Франции, где просил назначить день битвы. Но Филипп пренебрег этим картелем, равно как и этим мужланом, который смеет корчить из себя принца крови, и повелел ответить фламандцам, что, коль скоро у них нет военачальника, пусть защищаются как могут и как хотят. Вслед за чем отрядил двух маршалов – Матье де Три и Робера Бертрана, прозванного Рыцарем Зеленого Льва, – с приказом предать огню окрестности Брюгге.
Когда маршалы вернулись после этой военной операции, их встретили кликами восторга: каждому радостно было полюбоваться зрелищем полыхающих вдали нищенских домишек. А рыцари в богатом одеянии, даже не при оружии, переходили от шатра к шатру, с аппетитом вкушали яства под расшитыми золотом знаменами и играли со своими приближенными в шахматы. Французский лагерь и впрямь походил на лагерь короля Артура, каким изображается он в книжках с картинками, и каждый барон отождествлял себя кто с Ланселотом, кто с Гектором, а кто с Галаадом.
Но случилось так, что, когда наш доблестный монарх, предпочитавший, по собственным его словам, упреждать, чем упрежденну быть, весело пировал в компании приближенных, в лагерь ворвалось пятнадцать тысяч фламандцев. Они потрясали знаменами, на которых был изображен петух, а под ним красовалась дерзкая надпись:
Когда сей кочет запоет,
«Король-подкидыш» Фландрию возьмет.
В течение нескольких минут они разграбили добрую половину французского лагеря, перерезали веревки, державшие шатры, сбрасывали наземь шахматные доски, опрокидывали пиршественные столы, а заодно порубили немало сеньоров.
Французская пехота обратилась в бегство – страх гнал ее без передышки вплоть до Сент-Омера, другими словами, целых сорок лье.
А король успел только накинуть на кольчугу плащ, украшенный гербами Франции, натянуть на голову шлем белой кожи и вскочить на своего боевого коня, дабы последовать примеру героев рыцарских романов.
В этой битве обе неприятельские стороны совершили непростительный промах, и обе в силу тщеславия. Французские рыцари презирали фламандское мужичье, а фламандцы, желая доказать, что, мол, и они настоящие воины и ничуть не уступают высокородным сеньорам, облеклись в воинские доспехи, но в атаку они пошли пешие!
Граф Геннегау и его брат Иоганн, чьи войска были расположены в стороне, первыми устремились на фламандцев с фланга и расстроили их атаку. Французские рыцари, поднятые в бой королем, наконец-то смогли обрушиться на вражескую пехоту, скованную в своих действиях тяжелыми, зато великолепными рыцарскими доспехами, опрокинуть ее, топтать копытами своих мощных боевых коней, крушить и убивать. Эти благородные Ланселоты и Галаады, впрочем, только налетали на своих противников и оглушали их, предоставляя храбрым оруженосцам приканчивать побежденных ударом кинжала. Того, кто пытался бежать, сметала конница; тому, кто пытался сдаться на милость победителя, тут же перерезали глотку. В тот день полегло тринадцать тысяч фламандцев, и на поле боя высилась воистину сказочная груда железа и трупов, и к чему бы ни прикоснулась человеческая рука – к траве ли, к упряжи ли, к человеку или животному, – она окрашивалась алой кровью.
Битва при Касселе, начавшаяся беспорядочным бегством, окончилась полной победой Франции. О ней уже говорили как о новой битве при Бувине.
А ведь истинным победителем был не король, не старый коннетабль Гоше, не Робер Артуа, с какой бы отвагой они, подобно горному обвалу, ни обрушивались на вражеские ряды. Французов спас граф Вильгельм Геннегау. Но всю славу пожал его шурин – Филипп VI.
Столь могущественный владыка, как Филипп, теперь уже не мог терпеть ни малейшего нарушения традиционного выражения покорности со стороны своих вассалов. Поэтому английскому королю, герцогу Гиеньскому, было незамедлительно отправлено послание с требованием прибыть во Францию и принести вассальную присягу верности, да не мешкать по-пустому.