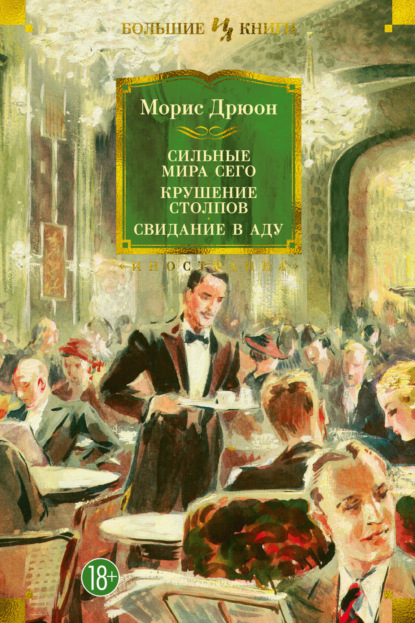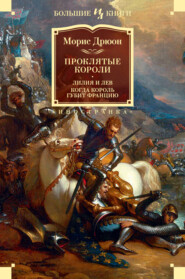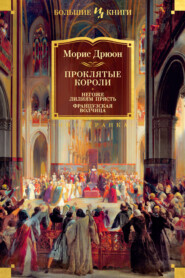По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как трогательно!.. Как трогательно!.. – прошептал он.
Вновь он медленно перевел взгляд на молодого человека, потом глаза умирающего затуманились.
– Как прекрасно это звучит: слава, – едва слышно произнес он.
4
Лартуа спускался по лестнице слегка подпрыгивающей походкой, высоко подняв голову.
– Доктор, сколько ему еще осталось жить? – вполголоса спросила Изабелла, взглянув на профессора блестящими от слез глазами.
– Все зависит вот от этого, – ответил Лартуа, прикасаясь к левой стороне груди, – но, полагаю, можно говорить лишь о нескольких часах… Ведь сегодня он уже дважды терял сознание…
Они вошли в маленькую гостиную. Урбен и Робер де Ла Моннери поднялись им навстречу.
– Я могу только повторить вам то, что сейчас говорил Изабелле, – сказал Лартуа. – Роковой исход может наступить в любую минуту. Воспаление легких удалось приостановить, однако сердечная мышца… сердечная мышца… Наступают минуты, когда наша несовершенная наука уже не в силах ничего сделать. Если речь идет о таком необыкновенном человеке и друге, то это поистине ужасно… Дорогая девочка, не найдется ли у вас листка бумаги?
– Для рецепта? – спросила Изабелла.
– Нет, для бюллетеня о состоянии здоровья.
Братья умирающего молчали. Маркиз дважды или трижды покачал головой, окаймленной венчиком белых волос.
Генерал Робер де Ла Моннери, самый младший из четырех братьев Ла Моннери, подышал на красную розетку, украшавшую лацкан его сюртука, словно хотел сдуть пылинку.
Лартуа писал: «Вечерний бюллетень».
Внезапно рука его остановилась. В глазах вспыхнули два странных ярких и неподвижных огонька: Изабелла склонилась над столом, ее немного низкая грудь отчетливо вырисовывалась под шерстяным джемпером, утомленное тело издавало слабый аромат. Лартуа попытался заглянуть в глаза Изабелле, но она, всецело поглощенная горем, этого не заметила.
Присутствующим казалось, что Лартуа размышляет. Два неподвижных огонька медленно погасли, и врач продолжал выводить своим убористым и острым почерком: «Работа органов дыхания значительно улучшилась. Наблюдается частичная сердечная недостаточность. Прогноз пока неясен».
«Это удовлетворит всех, – подумал он, – профанов и моих коллег. Смерть не покажется неожиданной…»
Он подписался: «Профессор Эмиль Лартуа».
Постоянно видя свою фамилию в газетах, когда речь шла о знаменитых людях, находившихся на смертном одре, он чувствовал, что и сам становится знаменитым.
Лартуа направился в переднюю, надел шубу, поданную лакеем, натянул на красивые холеные руки замшевые перчатки и направился к черному лимузину, стоявшему у подъезда.
Несколько минут спустя сиделка прошла по длинному коридору и постучала в дверь, которая вела на половину госпожи де Ла Моннери. Не услышав ответа, она постучалась вторично.
– Войдите, – раздался нетерпеливый голос.
Госпожа де Ла Моннери сидела за столом, на котором лежали цветные карандаши и стояли баночки с красками, и лепила из хлебного мякиша куколок, а затем одевала их в платья из серебряной бумаги. Ее бархатный, подбитый ватой халат ниспадал на пол. Пышные седые волосы были чуть подкрашены слабым раствором синьки.
– Слушаю вас, сестра, – сказала она. – Говорите громче.
– Сударыня, ваша племянница поручила мне… – начала монахиня.
– Ах, моя племянница? – произнесла старая дама, резко передернув плечами.
Выслушав монахиню, госпожа де Ла Моннери заявила с каменным выражением лица:
– При жизни он легко обходился без меня, отлично обойдется и перед смертью. Он причинил мне немало огорчений.
Затем добавила:
– Дочь уже предупредили?
– Да, сударыня, утром ей послали телеграмму.
– Значит, все идет как полагается, – заключила супруга поэта.
И она возвратилась к своим танцовщицам и пастушкам величиною с ноготок.
А в это время на первом этаже, в кухне, сидел, уронив руки на колени, старый лакей, в тот день облачившийся в поношенные брюки хозяина дома. Он то и дело вставал и подходил к приглушенно звонившему телефону (в аппарат был предусмотрительно заложен лоскут материи) или отпирал входную дверь, чтобы впустить запоздалого посетителя, желавшего оставить визитную карточку и осведомиться о состоянии больного. Эти ночные визиты были последним отблеском полувековой литературной славы Жана де Ла Моннери.
Заплаканная кухарка готовила легкий ужин – «ведь не могут же братья господина графа сидеть всю ночь без еды!»
Старый Урбен сказал, обращаясь к собравшимся в маленькой гостиной:
– Как быть с похоронами? Трудно принять в замке Моглев столько людей. И помимо всего прочего, это слишком далеко.
– У д’Юинов есть фамильный склеп на Монмартрском кладбище, так будет проще. Думаю, что Жюльетта не станет возражать, – откликнулся генерал.
Генерал был ранен на войне, одно колено у него не сгибалось, и он сидел, вытянув перед собой прямую, как палка, ногу.
Наступило молчание, слышались только шаги сиделки, возвращавшейся по коридору от графини.
Затем старший из братьев произнес:
– Не по душе мне это кладбище.
– Но ведь его оставят там лишь на время! – заметил младший Ла Моннери.
5
Жан де Ла Моннери чувствовал, что очки слегка давят на переносицу. Все его ощущения были теперь приглушены.
Лишь одно оставалось отчетливым и единственно важным: казалось, чья-то невидимая рука забралась в грудь под левую ключицу и не переставая сжимает сердце. Он чувствовал, как отчаянно трепещет его жизнь, зажатая этой рукой и ниоткуда не получающая помощи.
Перед ним на пюпитре, придвинутом к самым глазам, лежала печатная диссертация: «Жан де Ла Моннери, или Четвертое поколение романтиков».
В последний раз он вдыхал столь хорошо знакомый запах чуть влажной бумаги и свежей типографской краски, но запах этот казался больному скорее далеким воспоминанием, а не реальностью; рука его медленно перелистывала страницы – их было по шестнадцати в каждой пачке, составлявшей печатный лист. Взгляд скользил по ровным строкам; умирающий как будто хотел проникнуть в приговор грядущего. В его слабеющем мозгу это слово «грядущее» проносилось, подобно комете, которая оставляет светящийся след над беспредельными, темными, еще бесформенными материками.
Он понимал, что подошел к самому краю бездны по имени Небытие. Ей суждено навеки поглотить его, и от личности поэта Ла Моннери на земле останется лишь то, что смогут сохранить труды, подобные этой диссертации, – беглое изображение, плоское, как офорт, безжизненное, как гипсовый бюст, лживое, как история.
Неизбежная узость, ограниченность всякого исследования с особой силой заставила его почувствовать всю безмерность того, что должно было уйти вместе с ним. Сколько раз его наполняли восторгом внезапные и яркие озарения, сколько раз его мысль, блуждая по бесконечным лабиринтам, казалось, вот-вот отыщет ответ на извечные вопросы и сколько раз с таким трудом обретенная уверенность неумолимо исчезала! И теперь вся жизнь ума и души, какую не выразишь словами, должна была безвозвратно исчезнуть, раствориться без остатка во Вселенной. А постоянное, почти врожденное удивление, вызываемое мыслью о том, что мир столь велик, а человеческие деяния столь ничтожны! Кому дано воссоздать все это?
Вновь он медленно перевел взгляд на молодого человека, потом глаза умирающего затуманились.
– Как прекрасно это звучит: слава, – едва слышно произнес он.
4
Лартуа спускался по лестнице слегка подпрыгивающей походкой, высоко подняв голову.
– Доктор, сколько ему еще осталось жить? – вполголоса спросила Изабелла, взглянув на профессора блестящими от слез глазами.
– Все зависит вот от этого, – ответил Лартуа, прикасаясь к левой стороне груди, – но, полагаю, можно говорить лишь о нескольких часах… Ведь сегодня он уже дважды терял сознание…
Они вошли в маленькую гостиную. Урбен и Робер де Ла Моннери поднялись им навстречу.
– Я могу только повторить вам то, что сейчас говорил Изабелле, – сказал Лартуа. – Роковой исход может наступить в любую минуту. Воспаление легких удалось приостановить, однако сердечная мышца… сердечная мышца… Наступают минуты, когда наша несовершенная наука уже не в силах ничего сделать. Если речь идет о таком необыкновенном человеке и друге, то это поистине ужасно… Дорогая девочка, не найдется ли у вас листка бумаги?
– Для рецепта? – спросила Изабелла.
– Нет, для бюллетеня о состоянии здоровья.
Братья умирающего молчали. Маркиз дважды или трижды покачал головой, окаймленной венчиком белых волос.
Генерал Робер де Ла Моннери, самый младший из четырех братьев Ла Моннери, подышал на красную розетку, украшавшую лацкан его сюртука, словно хотел сдуть пылинку.
Лартуа писал: «Вечерний бюллетень».
Внезапно рука его остановилась. В глазах вспыхнули два странных ярких и неподвижных огонька: Изабелла склонилась над столом, ее немного низкая грудь отчетливо вырисовывалась под шерстяным джемпером, утомленное тело издавало слабый аромат. Лартуа попытался заглянуть в глаза Изабелле, но она, всецело поглощенная горем, этого не заметила.
Присутствующим казалось, что Лартуа размышляет. Два неподвижных огонька медленно погасли, и врач продолжал выводить своим убористым и острым почерком: «Работа органов дыхания значительно улучшилась. Наблюдается частичная сердечная недостаточность. Прогноз пока неясен».
«Это удовлетворит всех, – подумал он, – профанов и моих коллег. Смерть не покажется неожиданной…»
Он подписался: «Профессор Эмиль Лартуа».
Постоянно видя свою фамилию в газетах, когда речь шла о знаменитых людях, находившихся на смертном одре, он чувствовал, что и сам становится знаменитым.
Лартуа направился в переднюю, надел шубу, поданную лакеем, натянул на красивые холеные руки замшевые перчатки и направился к черному лимузину, стоявшему у подъезда.
Несколько минут спустя сиделка прошла по длинному коридору и постучала в дверь, которая вела на половину госпожи де Ла Моннери. Не услышав ответа, она постучалась вторично.
– Войдите, – раздался нетерпеливый голос.
Госпожа де Ла Моннери сидела за столом, на котором лежали цветные карандаши и стояли баночки с красками, и лепила из хлебного мякиша куколок, а затем одевала их в платья из серебряной бумаги. Ее бархатный, подбитый ватой халат ниспадал на пол. Пышные седые волосы были чуть подкрашены слабым раствором синьки.
– Слушаю вас, сестра, – сказала она. – Говорите громче.
– Сударыня, ваша племянница поручила мне… – начала монахиня.
– Ах, моя племянница? – произнесла старая дама, резко передернув плечами.
Выслушав монахиню, госпожа де Ла Моннери заявила с каменным выражением лица:
– При жизни он легко обходился без меня, отлично обойдется и перед смертью. Он причинил мне немало огорчений.
Затем добавила:
– Дочь уже предупредили?
– Да, сударыня, утром ей послали телеграмму.
– Значит, все идет как полагается, – заключила супруга поэта.
И она возвратилась к своим танцовщицам и пастушкам величиною с ноготок.
А в это время на первом этаже, в кухне, сидел, уронив руки на колени, старый лакей, в тот день облачившийся в поношенные брюки хозяина дома. Он то и дело вставал и подходил к приглушенно звонившему телефону (в аппарат был предусмотрительно заложен лоскут материи) или отпирал входную дверь, чтобы впустить запоздалого посетителя, желавшего оставить визитную карточку и осведомиться о состоянии больного. Эти ночные визиты были последним отблеском полувековой литературной славы Жана де Ла Моннери.
Заплаканная кухарка готовила легкий ужин – «ведь не могут же братья господина графа сидеть всю ночь без еды!»
Старый Урбен сказал, обращаясь к собравшимся в маленькой гостиной:
– Как быть с похоронами? Трудно принять в замке Моглев столько людей. И помимо всего прочего, это слишком далеко.
– У д’Юинов есть фамильный склеп на Монмартрском кладбище, так будет проще. Думаю, что Жюльетта не станет возражать, – откликнулся генерал.
Генерал был ранен на войне, одно колено у него не сгибалось, и он сидел, вытянув перед собой прямую, как палка, ногу.
Наступило молчание, слышались только шаги сиделки, возвращавшейся по коридору от графини.
Затем старший из братьев произнес:
– Не по душе мне это кладбище.
– Но ведь его оставят там лишь на время! – заметил младший Ла Моннери.
5
Жан де Ла Моннери чувствовал, что очки слегка давят на переносицу. Все его ощущения были теперь приглушены.
Лишь одно оставалось отчетливым и единственно важным: казалось, чья-то невидимая рука забралась в грудь под левую ключицу и не переставая сжимает сердце. Он чувствовал, как отчаянно трепещет его жизнь, зажатая этой рукой и ниоткуда не получающая помощи.
Перед ним на пюпитре, придвинутом к самым глазам, лежала печатная диссертация: «Жан де Ла Моннери, или Четвертое поколение романтиков».
В последний раз он вдыхал столь хорошо знакомый запах чуть влажной бумаги и свежей типографской краски, но запах этот казался больному скорее далеким воспоминанием, а не реальностью; рука его медленно перелистывала страницы – их было по шестнадцати в каждой пачке, составлявшей печатный лист. Взгляд скользил по ровным строкам; умирающий как будто хотел проникнуть в приговор грядущего. В его слабеющем мозгу это слово «грядущее» проносилось, подобно комете, которая оставляет светящийся след над беспредельными, темными, еще бесформенными материками.
Он понимал, что подошел к самому краю бездны по имени Небытие. Ей суждено навеки поглотить его, и от личности поэта Ла Моннери на земле останется лишь то, что смогут сохранить труды, подобные этой диссертации, – беглое изображение, плоское, как офорт, безжизненное, как гипсовый бюст, лживое, как история.
Неизбежная узость, ограниченность всякого исследования с особой силой заставила его почувствовать всю безмерность того, что должно было уйти вместе с ним. Сколько раз его наполняли восторгом внезапные и яркие озарения, сколько раз его мысль, блуждая по бесконечным лабиринтам, казалось, вот-вот отыщет ответ на извечные вопросы и сколько раз с таким трудом обретенная уверенность неумолимо исчезала! И теперь вся жизнь ума и души, какую не выразишь словами, должна была безвозвратно исчезнуть, раствориться без остатка во Вселенной. А постоянное, почти врожденное удивление, вызываемое мыслью о том, что мир столь велик, а человеческие деяния столь ничтожны! Кому дано воссоздать все это?