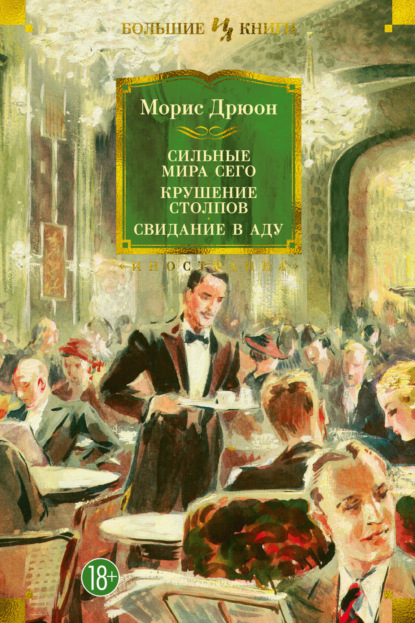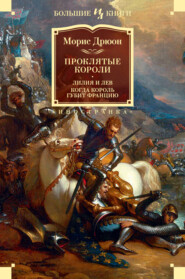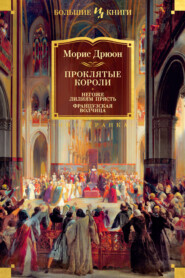По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Внизу хлопнула входная дверь.
– Это, должно быть, Франсуа, – проговорила баронесса.
Жаклина прислушалась; ей показалось, будто она узнает шаги мужа: он поднимается по лестнице! Затем она решила, что ошиблась.
Обед продолжался в полном молчании, слуги бесшумно подавали кушанья. Жаклина с трудом заставляла себя есть. Баронесса Шудлер произнесла несколько ничего не значащих фраз о каком-то знакомом еврее; старик Зигфрид, чего-то не понявший в словах невестки, снова вышел из себя.
– Еще мой отец принял католическую веру, а я… пф-ф… я был крещен уже в колыбели, – прохрипел он. – Однако мы никогда не стыдились своего происхождения… пф-ф… хотя все в нашем роду женились на католичках!
В эту минуту откуда-то из глубины дома донесся сильный треск, приглушенный толстыми стенами.
– Что происходит? – вскипел Ноэль. – Опять в кухне что-то разбили?..
И почти тотчас же на пороге возникла фигура старого камердинера Жереми. Он был бледен, руки его тряслись; приблизившись к Ноэлю, он что-то прошептал ему на ухо.
Великан побелел, отшвырнул салфетку и кинулся из комнаты.
Безотчетная тревога пронизала Жаклину, ей показалось, что в ее сердце всадили железный прут; она побежала за свекром, баронесса Шудлер последовала за нею.
– Что такое? Меня оставляют одного? – проворчал старик.
У дверей комнаты Франсуа Ноэль Шудлер остановился и, раскинув руки, крикнул:
– Нет, нет, не входите, прошу вас! И ты, Адель, тоже!
Жаклина оттолкнула свекра.
У изножья кровати лежал, распростершись, Франсуа: голова его была запрокинута, из открытого рта бежала струйка крови. Пуля, выйдя из черепа, пробила картину на стене. Франсуа целился достаточно высоко. На столе лежали два запечатанных письма. Жаклина услышала крик раненого зверя: это был ее собственный крик.
15
Из двух писем, оставленных Франсуа, Ноэль Шудлер схватил то, что было адресовано Люсьену Моблану; пробежав глазами листок, он тотчас же сжег его. Впоследствии он упорно утверждал, будто его сын оставил лишь одно письмо – Жаклине.
Несмотря на все усилия сохранить происшедшее в тайне, новость из-за болтливости слуг уже наутро стала известна в городе. Вот почему на бирже царила такая же напряженная атмосфера, какая бывает обычно после получения известия о роспуске парламента. Все только и говорили, что о самоубийстве сына Шудлера. Его объясняли различными причинами: неудачной спекуляцией акциями сахарных заводов, рискованными операциями на заграничных рынках, неблаговидными действиями ради сокрытия пошатнувшегося положения фирмы. Все, о чем шептались в последние дни, получило трагическое подтверждение, и самые дурные предположения, по-видимому, оправдывались. Без сомнения, деловым людям предстояло стать свидетелями наиболее крупного краха со времени окончания войны.
– Но этого следовало ожидать, – твердили те, кто постоянно кичился своей дальновидностью. – Ведь Леруа не дураки. Если они уже несколько дней в убыток себе продают акции, значит, у них есть к тому веские основания. Впрочем, многое давно уже внушало подозрения. Какого черта Ноэль Шудлер ездил в Америку? А? Может, вы мне объясните?
Крупные биржевые маклеры и представители больших частных банков лишь молча покачивали головами, зато они перешептывались с теми, кому полностью доверяли, и разрабатывали план битвы.
Паника охватила и промышленные круги. Владельцы металлургических предприятий, составлявшие основную клиентуру банка Шудлеров, забирали крупные суммы со своих текущих счетов, что грозило поставить банк в затруднительное положение.
Внезапно около полудня на парадной лестнице здания биржи показалась фигура Ноэля Шудлера. Великан, слегка согнувшись, подымался по ступенькам, опираясь одной рукой на трость, а другой – на руку своего биржевого маклера Альберика Канэ, невысокого и такого тощего человека, что он казался плоским, вырезанным из картона. Перистиль, служивший местом торговли акциями вне биржи, кишел возбужденной толпой, с нетерпением ожидавшей удара гонга, и оттуда уже доносился тревожный гул, который с каждой минутой усиливался, нарастал и грозил разлиться по всему кварталу.
Биржевики, подталкивая друг друга, громко перешептывались:
– Шудлер! Смотрите, Шудлер! Сам Шудлер!
Ноэль был бледен, глаза его опухли и покраснели от слез и бессонной ночи; черный галстук скрывался в вырезе жилета на белой подкладке.
Ему не пришлось проталкиваться сквозь толпу: все расступались перед ним с невольным уважением, какое внушает несчастье. Он вошел в просторный зал, украшенный прямоугольными колоннами, расплывчатыми фресками и намалеванными гербами всех столиц мира – центров биржевой жизни, напоминавшими рекламы туристических агентств; невысокие деревянные барьеры делили зал на несколько секторов; пюпитры походили на алтари, информационные бюллетени напоминали железнодорожное расписание; тусклый свет, падавший сквозь витражи на толпу людей в черных костюмах, делал это помещение еще более похожим на вокзал, превращенный в храм, где поклонялись какому-то неведомому божеству.
Ноэль Шудлер не появлялся на бирже уже пятнадцать лет. И сейчас многие приняли его чуть ли не за привидение; те, кто был помоложе, смотрели на него, как на сказочную фигуру, внезапно облекшуюся в живую плоть. Этот огромного роста старик, отмеченный печатью богатства и горя и явившийся сюда, чтобы дать бой и постоять за себя, невольно вызывал восхищение.
Шудлер медленно продвигался вперед. Он бросил взгляд на биржевые таблицы: «Соншельские акции – последний курс – 1840». Каков будет курс после открытия биржи?
Поравнявшись с каким-то пожилым человеком, Шудлер бросил:
– Ты предал меня!
Кланяясь на ходу знакомым, он обронил еще несколько слов, и стоявшие рядом люди пытались понять их скрытый смысл, постичь, что в них таится – угроза или признание собственного поражения.
Обуреваемый различными чувствами, погруженный во всевозможные сложные расчеты, Ноэль Шудлер все же ощутил волнение, вновь окунувшись в лихорадочную атмосферу биржи: она напомнила ему далекое прошлое. Он расправил плечи, на щеках у него выступил слабый румянец.
Альберик Канэ уже собирался войти на своеобразную, огороженную балюстрадой круглую площадку, находившуюся в самом центре зала: туда имели доступ только биржевые маклеры, там заключались различные сделки. В эту минуту Шудлер схватил его за рукав.
– Вы действительно намерены поддерживать меня до конца, Альберик? – спросил он.
Маленький человек выдержал пристальный взгляд великана.
– Я вам обязан всем, Ноэль, вам и вашему отцу. Я буду вас поддерживать, пока хватит сил.
И он занял свое место возле балюстрады, обтянутой красным бархатом; биржевые маклеры, одетые в хорошо отутюженные дорогие костюмы, с массивными золотыми цепочками, пущенными по жилету, опирались на эту балюстраду, как на закраину колодца. Альберик Канэ был самым миниатюрным среди своих собратьев; он швырнул наполовину выкуренную сигарету на кучу золотистого песка, высившуюся в центре площадки и ежедневно обновлявшуюся; какой-то биржевой маклер однажды шутя назвал ее «могильным холмом надежд». Затем Канэ посмотрел на стенные часы: большая стрелка уже готова была закрыть маленькую…
Послышался звук гонга.
– Предлагаю Соншельские!.. Предлагаю Соншельские!.. Сколько?
В первые же минуты курс Соншельских акций упал до 1550 франков, а число предлагавшихся к продаже достигло четырех тысяч.
Ноэль Шудлер, стоявший у балюстрады с ее внешней стороны, на целую голову возвышался над биржевыми посредниками и «зайцами», которые шныряли в толпе, размахивая какими-то листками и телеграммами. Время от времени он подзывал через служителя Альберика Канэ, что-то шептал маклеру на ухо или передавал ему записку. Тот испещрял листки блокнота рядами микроскопических цифр, загибал углы печатных карточек, которые сжимал в ладони, рассылал во все стороны своих служащих. Ясно было, что весь персонал его конторы занят выполнением приказов Шудлера.
Самоубийство Франсуа породило смятение, какого не могли бы вызвать одни только враждебные действия Моблана; с улицы Пти-Шан, где помещался банк Шудлеров, поступали зловещие сведения о размерах срочно востребованных вкладов.
Акции банка Шудлеров падали, акции рудников Зоа – тоже. Именно тут развертывалось сейчас генеральное сражение: защищаясь, Ноэль поднимал курс на пятьдесят франков, наблюдал, как он снова падает, и вновь поднимал; он боролся против паники с помощью миллионов. В такой день, как этот, банкир не мог бы, сидя у себя в кабинете, столь гибко руководить борьбой, отдавать каждую минуту нужные распоряжения, маневрировать резервами, использовать все, вплоть до своего импозантного вида.
Между тем курс акций Соншельских сахарных заводов продолжал неумолимо снижаться. То и дело слышались громкие возгласы:
– Предлагаю Соншельские!.. Сколько?.. Восемьсот… Тысячу двести штук… Беру по тысяча четыреста двадцать франков… Беру по тысяча четыреста!.. Сколько?.. Давайте пятьсот штук по тысяча четыреста!.. Соншельские! Сколько? Две тысячи штук… Беру по тысяча триста пятьдесят… Давайте двести штук по тысяча триста пятьдесят!.. Соншельские, предлагаю Соншельские!..
Соншельских акций продавали все больше и больше, а спрос на них неотвратимо сокращался. Цифры на электрическом экране зажигались и гасли. Многие биржевые агенты окончательно сорвали голос и объяснялись лишь жестами.
– Проводи меня к телефонной будке господина Канэ, – обратился Ноэль Шудлер к биржевому «зайцу».
В просторной квадратной комнате, примыкавшей к большому залу, помещалось вдоль стен около сорока одинаковых небольших будок; в них располагались люди разного возраста, и все они, надрываясь, что-то кричали в телефонные трубки; на лбу у них набухали жилы, глаза вылезали из орбит; издали они напоминали насекомых, копошившихся в стеклянных коробочках. Над каждой будкой была прибита медная дощечка с выгравированной фамилией биржевого маклера. Шудлер вошел в будку и в свою очередь превратился в черное насекомое, только значительно большего размера, чем другие, – в насекомое под увеличительным стеклом.
– Гютенбер сорок шесть, запятая, два… Нет, мадемуазель, Гютенбер… Гю-тен-бер… да-да, запятая, два! – кричал банкир.
За стеклянной дверцей будки слышался все тот же оглушительный шум.
– Это, должно быть, Франсуа, – проговорила баронесса.
Жаклина прислушалась; ей показалось, будто она узнает шаги мужа: он поднимается по лестнице! Затем она решила, что ошиблась.
Обед продолжался в полном молчании, слуги бесшумно подавали кушанья. Жаклина с трудом заставляла себя есть. Баронесса Шудлер произнесла несколько ничего не значащих фраз о каком-то знакомом еврее; старик Зигфрид, чего-то не понявший в словах невестки, снова вышел из себя.
– Еще мой отец принял католическую веру, а я… пф-ф… я был крещен уже в колыбели, – прохрипел он. – Однако мы никогда не стыдились своего происхождения… пф-ф… хотя все в нашем роду женились на католичках!
В эту минуту откуда-то из глубины дома донесся сильный треск, приглушенный толстыми стенами.
– Что происходит? – вскипел Ноэль. – Опять в кухне что-то разбили?..
И почти тотчас же на пороге возникла фигура старого камердинера Жереми. Он был бледен, руки его тряслись; приблизившись к Ноэлю, он что-то прошептал ему на ухо.
Великан побелел, отшвырнул салфетку и кинулся из комнаты.
Безотчетная тревога пронизала Жаклину, ей показалось, что в ее сердце всадили железный прут; она побежала за свекром, баронесса Шудлер последовала за нею.
– Что такое? Меня оставляют одного? – проворчал старик.
У дверей комнаты Франсуа Ноэль Шудлер остановился и, раскинув руки, крикнул:
– Нет, нет, не входите, прошу вас! И ты, Адель, тоже!
Жаклина оттолкнула свекра.
У изножья кровати лежал, распростершись, Франсуа: голова его была запрокинута, из открытого рта бежала струйка крови. Пуля, выйдя из черепа, пробила картину на стене. Франсуа целился достаточно высоко. На столе лежали два запечатанных письма. Жаклина услышала крик раненого зверя: это был ее собственный крик.
15
Из двух писем, оставленных Франсуа, Ноэль Шудлер схватил то, что было адресовано Люсьену Моблану; пробежав глазами листок, он тотчас же сжег его. Впоследствии он упорно утверждал, будто его сын оставил лишь одно письмо – Жаклине.
Несмотря на все усилия сохранить происшедшее в тайне, новость из-за болтливости слуг уже наутро стала известна в городе. Вот почему на бирже царила такая же напряженная атмосфера, какая бывает обычно после получения известия о роспуске парламента. Все только и говорили, что о самоубийстве сына Шудлера. Его объясняли различными причинами: неудачной спекуляцией акциями сахарных заводов, рискованными операциями на заграничных рынках, неблаговидными действиями ради сокрытия пошатнувшегося положения фирмы. Все, о чем шептались в последние дни, получило трагическое подтверждение, и самые дурные предположения, по-видимому, оправдывались. Без сомнения, деловым людям предстояло стать свидетелями наиболее крупного краха со времени окончания войны.
– Но этого следовало ожидать, – твердили те, кто постоянно кичился своей дальновидностью. – Ведь Леруа не дураки. Если они уже несколько дней в убыток себе продают акции, значит, у них есть к тому веские основания. Впрочем, многое давно уже внушало подозрения. Какого черта Ноэль Шудлер ездил в Америку? А? Может, вы мне объясните?
Крупные биржевые маклеры и представители больших частных банков лишь молча покачивали головами, зато они перешептывались с теми, кому полностью доверяли, и разрабатывали план битвы.
Паника охватила и промышленные круги. Владельцы металлургических предприятий, составлявшие основную клиентуру банка Шудлеров, забирали крупные суммы со своих текущих счетов, что грозило поставить банк в затруднительное положение.
Внезапно около полудня на парадной лестнице здания биржи показалась фигура Ноэля Шудлера. Великан, слегка согнувшись, подымался по ступенькам, опираясь одной рукой на трость, а другой – на руку своего биржевого маклера Альберика Канэ, невысокого и такого тощего человека, что он казался плоским, вырезанным из картона. Перистиль, служивший местом торговли акциями вне биржи, кишел возбужденной толпой, с нетерпением ожидавшей удара гонга, и оттуда уже доносился тревожный гул, который с каждой минутой усиливался, нарастал и грозил разлиться по всему кварталу.
Биржевики, подталкивая друг друга, громко перешептывались:
– Шудлер! Смотрите, Шудлер! Сам Шудлер!
Ноэль был бледен, глаза его опухли и покраснели от слез и бессонной ночи; черный галстук скрывался в вырезе жилета на белой подкладке.
Ему не пришлось проталкиваться сквозь толпу: все расступались перед ним с невольным уважением, какое внушает несчастье. Он вошел в просторный зал, украшенный прямоугольными колоннами, расплывчатыми фресками и намалеванными гербами всех столиц мира – центров биржевой жизни, напоминавшими рекламы туристических агентств; невысокие деревянные барьеры делили зал на несколько секторов; пюпитры походили на алтари, информационные бюллетени напоминали железнодорожное расписание; тусклый свет, падавший сквозь витражи на толпу людей в черных костюмах, делал это помещение еще более похожим на вокзал, превращенный в храм, где поклонялись какому-то неведомому божеству.
Ноэль Шудлер не появлялся на бирже уже пятнадцать лет. И сейчас многие приняли его чуть ли не за привидение; те, кто был помоложе, смотрели на него, как на сказочную фигуру, внезапно облекшуюся в живую плоть. Этот огромного роста старик, отмеченный печатью богатства и горя и явившийся сюда, чтобы дать бой и постоять за себя, невольно вызывал восхищение.
Шудлер медленно продвигался вперед. Он бросил взгляд на биржевые таблицы: «Соншельские акции – последний курс – 1840». Каков будет курс после открытия биржи?
Поравнявшись с каким-то пожилым человеком, Шудлер бросил:
– Ты предал меня!
Кланяясь на ходу знакомым, он обронил еще несколько слов, и стоявшие рядом люди пытались понять их скрытый смысл, постичь, что в них таится – угроза или признание собственного поражения.
Обуреваемый различными чувствами, погруженный во всевозможные сложные расчеты, Ноэль Шудлер все же ощутил волнение, вновь окунувшись в лихорадочную атмосферу биржи: она напомнила ему далекое прошлое. Он расправил плечи, на щеках у него выступил слабый румянец.
Альберик Канэ уже собирался войти на своеобразную, огороженную балюстрадой круглую площадку, находившуюся в самом центре зала: туда имели доступ только биржевые маклеры, там заключались различные сделки. В эту минуту Шудлер схватил его за рукав.
– Вы действительно намерены поддерживать меня до конца, Альберик? – спросил он.
Маленький человек выдержал пристальный взгляд великана.
– Я вам обязан всем, Ноэль, вам и вашему отцу. Я буду вас поддерживать, пока хватит сил.
И он занял свое место возле балюстрады, обтянутой красным бархатом; биржевые маклеры, одетые в хорошо отутюженные дорогие костюмы, с массивными золотыми цепочками, пущенными по жилету, опирались на эту балюстраду, как на закраину колодца. Альберик Канэ был самым миниатюрным среди своих собратьев; он швырнул наполовину выкуренную сигарету на кучу золотистого песка, высившуюся в центре площадки и ежедневно обновлявшуюся; какой-то биржевой маклер однажды шутя назвал ее «могильным холмом надежд». Затем Канэ посмотрел на стенные часы: большая стрелка уже готова была закрыть маленькую…
Послышался звук гонга.
– Предлагаю Соншельские!.. Предлагаю Соншельские!.. Сколько?
В первые же минуты курс Соншельских акций упал до 1550 франков, а число предлагавшихся к продаже достигло четырех тысяч.
Ноэль Шудлер, стоявший у балюстрады с ее внешней стороны, на целую голову возвышался над биржевыми посредниками и «зайцами», которые шныряли в толпе, размахивая какими-то листками и телеграммами. Время от времени он подзывал через служителя Альберика Канэ, что-то шептал маклеру на ухо или передавал ему записку. Тот испещрял листки блокнота рядами микроскопических цифр, загибал углы печатных карточек, которые сжимал в ладони, рассылал во все стороны своих служащих. Ясно было, что весь персонал его конторы занят выполнением приказов Шудлера.
Самоубийство Франсуа породило смятение, какого не могли бы вызвать одни только враждебные действия Моблана; с улицы Пти-Шан, где помещался банк Шудлеров, поступали зловещие сведения о размерах срочно востребованных вкладов.
Акции банка Шудлеров падали, акции рудников Зоа – тоже. Именно тут развертывалось сейчас генеральное сражение: защищаясь, Ноэль поднимал курс на пятьдесят франков, наблюдал, как он снова падает, и вновь поднимал; он боролся против паники с помощью миллионов. В такой день, как этот, банкир не мог бы, сидя у себя в кабинете, столь гибко руководить борьбой, отдавать каждую минуту нужные распоряжения, маневрировать резервами, использовать все, вплоть до своего импозантного вида.
Между тем курс акций Соншельских сахарных заводов продолжал неумолимо снижаться. То и дело слышались громкие возгласы:
– Предлагаю Соншельские!.. Сколько?.. Восемьсот… Тысячу двести штук… Беру по тысяча четыреста двадцать франков… Беру по тысяча четыреста!.. Сколько?.. Давайте пятьсот штук по тысяча четыреста!.. Соншельские! Сколько? Две тысячи штук… Беру по тысяча триста пятьдесят… Давайте двести штук по тысяча триста пятьдесят!.. Соншельские, предлагаю Соншельские!..
Соншельских акций продавали все больше и больше, а спрос на них неотвратимо сокращался. Цифры на электрическом экране зажигались и гасли. Многие биржевые агенты окончательно сорвали голос и объяснялись лишь жестами.
– Проводи меня к телефонной будке господина Канэ, – обратился Ноэль Шудлер к биржевому «зайцу».
В просторной квадратной комнате, примыкавшей к большому залу, помещалось вдоль стен около сорока одинаковых небольших будок; в них располагались люди разного возраста, и все они, надрываясь, что-то кричали в телефонные трубки; на лбу у них набухали жилы, глаза вылезали из орбит; издали они напоминали насекомых, копошившихся в стеклянных коробочках. Над каждой будкой была прибита медная дощечка с выгравированной фамилией биржевого маклера. Шудлер вошел в будку и в свою очередь превратился в черное насекомое, только значительно большего размера, чем другие, – в насекомое под увеличительным стеклом.
– Гютенбер сорок шесть, запятая, два… Нет, мадемуазель, Гютенбер… Гю-тен-бер… да-да, запятая, два! – кричал банкир.
За стеклянной дверцей будки слышался все тот же оглушительный шум.