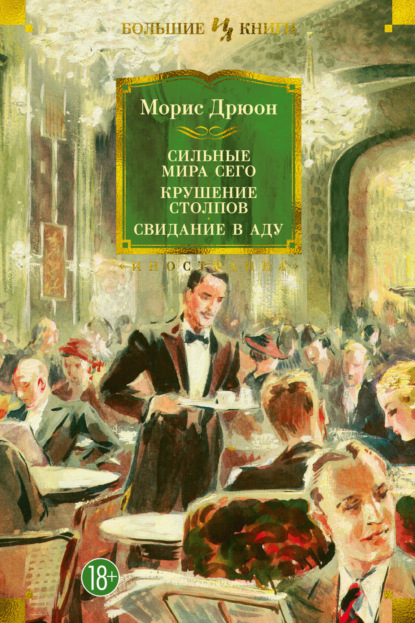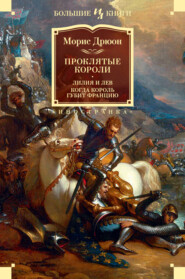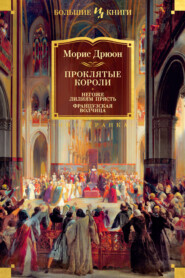По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Высоко подняв голову с аккуратно расчесанными седыми волосами, Эмиль Лартуа читал глухим голосом свою речь при вступлении в Академию. На плотно облегавшем его фигуру зеленом мундире, сливаясь с рядом орденов, блестело новое золотое шитье. Локтем левой руки Лартуа касался эфеса своей шпаги. По обе стороны от него на довольно жестких креслах сидели его «крестные отцы»: историк Барер и маршал Жоффр.
Хотя на улице стоял ясный июньский день, под куполом Академии царил ровный полумрак, как в часовне без витражей. Одинокий солнечный луч рассекал, подобно мечу архангела, пыльную вершину купола и то касался фиолетовой рясы епископа, то скользил по желтой лысине какого-нибудь задремавшего старца.
Народу собралось довольно много, но чрезмерного скопления публики и давки, какие бывают в дни больших торжеств, не наблюдалось. Прежде всего, уже наступило время отпусков. И потом, слава имеет свои градации, не менее четкие, чем переход от неизвестности к успеху. И не на всех ее ступенях одинаково многолюдно.
Парижская публика к тому же вовсе не ждала, что во вступительном слове Эмиля Лартуа или в ответном слове добрейшего Альбера Муайо забьют фонтаны красноречия.
Достигнув известного возраста, люди, пользующиеся определенной репутацией, вынуждены отвечать тому представлению, какое о них сложилось: памфлетист должен писать памфлеты, человек учтивый – проявлять учтивость; даже фантазер, состарившись, обязан предаваться фантазиям.
Вот почему Эмиль Лартуа, помня о том положении, какое он занимал в обществе, произносил негромким голосом хорошо построенные, но в общем пустые фразы, изредка пересыпая свою речь медицинскими терминами и тут же поспешно извиняясь за это. Присутствующие, вполне удовлетворенные, вежливо посмеивались.
Жером Барер, как всегда со всклоченной бородой, в покрытом пятнами зеленом мундире, преспокойно чистил ногти на левой руке большим пальцем правой.
Впереди, перед самой кафедрой, у всех на виду сидел лобастый молодой человек в новенькой визитке; казалось, он был доволен своим местом не меньше, чем новый академик своим. Это был Симон Лашом, он представлял своего министра, задержавшегося на заседании комиссии палаты депутатов. Хотя смены кабинета с начала года не произошло, внутреннее перемещение позволило Анатолю Руссо в девятый раз получить портфель министра: он в четвертый раз стал министром просвещения. Симон за свою верность был назначен помощником начальника канцелярии министра; он сделался лицом сугубо официальным и сменил очки в металлической оправе на очки в черепаховой оправе. О нем уже начинали говорить в Париже.
Большинство публики составляли дамы; среди присутствующих были также и неудачливые претенденты, дважды или трижды терпевшие поражение на выборах в Академию; однако они не отчаивались и именно благодаря частым своим провалам в конце концов стали чувствовать себя в Академии как дома; в зале находились также писатели, считавшиеся еще молодыми, хотя им было уже под пятьдесят; лет десять назад они уверяли, что ни за какие блага их не заманят в эту богадельню, а теперь все же приходили подышать пыльной атмосферой бессмертия, взвесить свои шансы и определить препятствия.
Все эти кандидаты – будущие и настоящие – озабоченно изучали лица академиков, силясь угадать, чье кресло освободится раньше других.
– Бедняга Лоти ужасно выглядит, вы не находите? – с лицемерным сочувствием прошептал на ухо своей соседке какой-то романист.
А тридцать с лишним знаменитостей, слушая речь своего нового коллеги, разглядывали сидевших в первых рядах людей со сравнительно молодыми физиономиями и думали: «Смотрите-ка, они осмелились прийти сюда, эти мальчишки. Мы им покажем, что взобраться на Олимп не так-то просто, как они воображают». Ибо прежде, чем уступить свое место, старики собирались поиграть в занимательную игру: пусть-ка претенденты, принадлежащие к следующему поколению, люди с седеющими висками, выстроятся в ряд и, обгоняя друг друга, подобно лошадям на скачках, устремятся через весь Париж к Академии, меж тем как сами академики будут спокойно восседать в своих креслах и любоваться этим зрелищем.
Госпожа де Ла Моннери сидела в обществе своей дочери – молодой баронессы Шудлер – и своей племянницы Изабеллы на жестких деревянных стульях внизу, посреди маленького зала, рядом со вдовой Домьера, в кругу близких друзей нового академика; вид у нее был недовольный и осуждающий, потому что Лартуа, по ее мнению, говорил слишком тихо и можно было уловить лишь обрывки его речи.
– И вот этот человек, истинный баловень судьбы, – читал Лартуа, – счастливый муж, отец, брат, любимец друзей, писатель, окруженный всеобщим восхищением, которого ежегодно осыпали почестями, был, несмотря на все это, певцом печали, так как ему открылась печальная сущность жизни. Неумолимый бег времени был для Жана де Ла Моннери постоянным источником грусти; рождение, а затем смерть всего живого оставались для него извечной загадкой. Молодость и радость обманчивы, они слишком быстротечны. Бог даровал человеку, своему созданию, лишь преходящие блага, ибо, не дав ему, вернее, отняв у него вечность, он лишил его возможности долго ими наслаждаться. Вот что характерно для мировоззрения вашего знаменитого собрата, как и для Ламартина, с которым его многое роднит. Недаром Жан де Ла Моннери недавно был назван в произведении проницательного критика поэтом четвертого поколения романтиков…
Симон Лашом почувствовал, что краснеет от удовольствия: оратор намекал на его диссертацию, так Лартуа отблагодарил его за статью-некролог. Изабелла бросила взгляд на Симона, но он этого не заметил.
– Для вашего знаменитого собрата человек – падший ангел… – продолжал Лартуа. – Но распад, по его мнению, нечто не только присущее природе человека, но и неотделимое от самого процесса жизни. С какой горечью, с какой беспощадностью поэт описывает этапы этого распада – постепенное разрушение тканей, незаметное на первый взгляд притупление чувств, полную утрату надежд. Целых пятьдесят лет Жан де Ла Моннери наблюдал на себе самом, как стареет человек.
Лартуа не спеша перевернул страницу и откашлялся.
– Но этот неотступный страх перед старостью, граничащий, если можно так выразиться, с психозом, – произнес он более отчетливо и громко, – счастье для тех, кто его испытывает, ибо он избавляет их от неотступного страха перед смертью, угнетающего столь многих.
Лартуа помолчал, ожидая гула одобрения и возгласов «Прекрасно… прекрасно…», которые должна была вызвать эта мысль, казавшаяся ему психологически необычайно тонкой.
Но зал ответил лишь грозной тишиной. Не равнодушной, а враждебной. Тишиной, не нарушаемой ни кашлем, ни шелестом одежды; тишиной, в которой каждый, казалось, мог услышать биение собственного сердца. Лартуа почувствовал, как на него устремились многочисленные недоброжелательные взгляды; даже его «крестный отец», историк с грязными ногтями, и тот сурово посмотрел на него.
А ведь при предварительном чтении в узком кругу эта мысль прошла незамеченной. Но сейчас, прочитанная нарочито громко, чтобы произвести впечатление на широкую аудиторию, фраза внезапно прозвучала совершенно необычно, странно и произвела нежелательный эффект.
Есть вещи, о которых не принято говорить или, во всяком случае, которые не принято называть своими именами; и слова о страхе смерти здесь, среди всех этих сгорбленных стариков и женщин с увядающими лицами, были восприняты как бестактность, позволительная разве лишь студенту-медику и куда более неуместная, чем непристойность.
Они и без того отлично знали, как силен был в них этот страх! Эссеист, мнивший себя последователем Вольтера, никогда не засыпал, не прочитав на ночь молитвы, заученной с детства; философ с воротником, всегда осыпанным перхотью, каждый вечер тщательно измерял температуру; Морис Баррес ночи напролет ходил по спальне в кальсонах, стараясь отогнать обуревавший его страх; драматург не расставался даже за обедом с лекарствами в пяти пузырьках. Всем им, конечно, была отлично знакома эта граничившая с психозом боязнь смерти! А поспешность, с какой они закрывали окна при малейшем сквозняке, а их испуг перед черной кошкой, перебежавшей им дорогу, перед встреченным священником или похоронными дрогами, а их желание заплакать при виде красивого пейзажа, сада Тюильри, ребенка, играющего в серсо, лодки, плывущей по Сене, муравья, что тащит былинку! В такие минуты комок подступал у них к горлу и они думали: «Скоро я ничего уже не увижу!» Зачем же надо было об этом напоминать? И особенно сейчас, когда им удалось забыться. Ибо торжественная обстановка, царившая при их появлении в зале, сознание, что они окружены почетом и завистью, что они входят в число сорока наиболее знаменитых людей страны, которую они все еще считали самой прославленной и самой цивилизованной в мире, – все это вытесняло у них на миг мысль о неизбежности смерти. Когда проходит время любовных утех, только удовлетворенное тщеславие способно дать человеку радость или, по крайней мере, развлечь его.
Нет! Никто никогда не признается в том, что страшится смерти, и эта сдержанность вовсе не есть достоинство, как кое-кто утверждает, а лишь боязнь отпугнуть тех, на чью помощь рассчитывают. Ребенок, который боится минуты, когда погасят свет, уверяет мать, будто он из любви к ней хочет, чтобы она пришла и посидела возле него; солдат, во все горло распевающий непристойную песенку, высовываясь из вагона, просто силится заглушить тревогу, что надрывает ему душу, как вой испорченной сирены; женщина, которая прижимается к теплому телу любовника, и старая супружеская чета, все еще продолжающая спать в одной постели, именуют свой страх любовью. Никто, никто не хочет в этом признаться из боязни остаться одиноким, словно зачумленный, ибо и мать, и любовник, и солдат – все они тоже боятся! Цивилизация, города, чувства, изящные искусства, законы и армии – все рождено страхом, и особенно высшей его формой – страхом смерти.
Таков примерно был ход мыслей всех присутствующих здесь стариков, в большинстве своем профессиональных наблюдателей природы человека. И они с трудом заставляли себя слушать продолжение речи.
И сам Лартуа, читая написанные им слова, не слышал больше, как они звучат. Молчание собравшихся вызывало в нем ту же тревогу, какую он сам в них пробудил. Он сбился дважды или трижды, потому что, читая, думал: «К чему же это? И что я, собственно, тут делаю? Зачем, зачем? А ведь я так желал попасть сюда. И вот я здесь! Какая суета! Сколько здесь больных и немощных!» Такой приступ отчаяния был совершенно необъяснимым именно теперь, когда осуществлялась его многолетняя мечта, когда он занял наконец место, к которому так страстно стремился.
Окончание его речи было встречено положенными по ритуалу аплодисментами; однако собравшиеся почувствовали подлинное облегчение лишь после того, как добрейший Альбер Муайо взобрался на кафедру и начал читать, поправляя пенсне:
– Милостивый государь! Виконт де Шатобриан, занимавший в прошлом то самое кресло, в котором мы имеем честь видеть сегодня вас, пишет в своих мемуарах: «При жизни Гиппократа, гласит надгробная надпись, в аду было мало обитателей; по милости наших современных Гиппократов там наблюдается избыток населения». Будь господин Шатобриан знаком с вами, пересмотрел ли бы он свое суждение? Что касается меня, милостивый государь, то я верю, что да…
Зал сразу оживился. Все почувствовали себя лучше. И сам Лартуа обрел привычную уверенность, услышав, как воздают хвалу его талантам.
Альбер Муайо дребезжащим голосом восхвалял необыкновенные достоинства жизнеописания знаменитого врача Лаэнека, автором которого был Лартуа; он коснулся даже его докторской диссертации о заболеваниях привратника желудка, но не стал ее подробно разбирать, а лишь оценил как «важный вклад в благородную науку врачевания».
Новоиспеченный академик холеной рукой приглаживал свою седую шевелюру.
9
Лартуа с сожалением снял шпагу и мундир. Он бы охотно не снимал их всю жизнь. Себе в утешение он подсчитал, что в среднем при десяти ежегодных церемониях ему предстоит еще надевать мундир по меньшей мере раз сто, а то и все сто пятьдесят. Его отец умер семидесяти пяти лет, мать – семидесяти девяти…
Он пригласил десяток друзей на обед в отдельный кабинет ресторана «Риц». Все они снова и снова восхищались элегантностью его мундира; надо сказать, что это обстоятельство подчеркивали в своих кратких отчетах о церемонии и вечерние газеты, где мелькали выражения: «Светло-зеленый мундир профессора Лартуа… Профессор Лартуа – истинный денди Академии…»
– Видите ли, – говорил Лартуа, усаживаясь за стол, – у меня было два выхода. Или приобрести мундир покойного коллеги…
С каким удовольствием употреблял он теперь термин «коллега», говоря о тех, кто входил в храм славы Франции, созданный еще при Ришелье!
– …или же заказать себе новый. Носить одежду с чужого плеча не слишком приятно, особенно если умерший не близкий ваш друг. Ах! Если бы это был мундир бедняги Жана… – продолжал он, повернувшись к госпоже Этерлен, которая, как и Симон, находилась в числе приглашенных. – Правда, у нас с Жаном были разные фигуры… И тогда я сказал себе: «К черту скупость! Ведь для Академии я в сущности еще юноша, закажем же себе новый мундир!»
Он говорил несколько громче, чем обычно, ибо никак не мог избавиться от ораторского тона, которым произносил свое вступительное слово.
Обед по случаю какого-нибудь счастливого события, как, впрочем, и в дни рождения и Нового года, обычно дает повод для горьких размышлений. Тот, кто получил премию в консерватории или кубок на теннисных состязаниях, кто был избран в парламент либо в Академию, редко может провести этот вечер среди тех, кого он хочет видеть. На него всегда обрушивается поток преувеличенных любезностей; замечая вокруг чрезмерно сияющие лица, триумфатор с задумчивым видом пьет свое шампанское.
А когда он решает пригласить сразу всех: и своих родственников, и родственников жены, старых, необыкновенно обидчивых друзей, любовницу, мужа любовницы, новых приятелей, – то видит вокруг себя одни лишь каменные лица.
Для Лартуа не существовало проблемы такого рода. Всю его родню составляла сестра, старая дева, которая жила в Провене и не сочла нужным приехать в Париж. У него не было ни жены, ни детей, а смерть уже избавила его от большинства друзей молодости. Что касается любовниц, то они слишком мало значили для него в этот период, когда единственной его страстью стала Академия.
Вот почему Лартуа имел все основания просто и бездумно наслаждаться своим успехом. Все говорили только о нем, о его речи, об ответном слове; да и сам он чувствовал себя вправе ни о чем ином не говорить, кроме собственной персоны.
Жером Барер, у которого накрахмаленная манишка топорщилась под бородой, а губы лоснились от соуса, кричал:
– А знаете, что он будет делать нынче вечером после такого дня? Читать Евангелие на греческом!
– Если бы это было известно заранее, Эмиль, – подбавила фимиама жена историка, особа с лошадиным лицом, у которой при разговоре обнажались огромные бледные десны, – я уверена, вы были бы избраны в первом же туре.
Лартуа почувствовал, что его радость дала первую трещину. «Да, – подумал он, – очень скоро я возьму в руки Евангелие, потому что, читая по-гречески, я ни о чем не думаю».
Перед его глазами мелькнул черный рукав метрдотеля, разливавшего бургундское. Лартуа слышал голос Симона, небесный шепот Мари Элен Этерлен и страстные выкрики полупомешанной княгини Тоцци: несмотря на свои пятьдесят четыре года и морщинистое лицо, она столь пылко взирала на мужчин, что приводила их в смущение… Все они скоро уйдут и оставят его одного.
Его страшила минута, когда он снова окажется в одиночестве, в тишине своей квартиры на авеню Иены, отделенный плотно закрытыми дверьми от погрузившегося в сон огромного улья, населенного дружными семьями и влюбленными парочками. В обычные дни это его мало трогало; напротив, ему зачастую даже нравилось оставаться наедине с собственным отражением в зеркале. Но в этот вечер такая перспектива вдруг показалась ему невыносимой. Стеклянный колпак одиночества, который опустился на него днем среди царившей в зале тягостной тишины, казалось, вновь отделил его от гостей; нервы были так напряжены после событий ушедшего дня, что тонкие кушанья и вина не могли оказать на него благотворное воздействие. «Отныне меня всегда станут сажать по правую руку хозяйки дома, мои статьи будут оплачиваться вдвойне, мое имя поместят в словаре Ларусса… И все же потом… меня забудут… и, так или иначе, сегодня вечером я буду совсем один… Постараемся же блеснуть…»
Он прибегнул к обычному приему стареющих острословов и разразился каскадом коротких и пряных анекдотов, жонглируя своими воспоминаниями, перемешивая гривуазное с трагическим, искусно играя словами. Сидевшие за столом говорили: «Право же, когда Лартуа в ударе, он просто неподражаем!»
– О, Эмиль! Расскажи нам историю с поездом! – воскликнула княгиня Тоцци.
Хотя на улице стоял ясный июньский день, под куполом Академии царил ровный полумрак, как в часовне без витражей. Одинокий солнечный луч рассекал, подобно мечу архангела, пыльную вершину купола и то касался фиолетовой рясы епископа, то скользил по желтой лысине какого-нибудь задремавшего старца.
Народу собралось довольно много, но чрезмерного скопления публики и давки, какие бывают в дни больших торжеств, не наблюдалось. Прежде всего, уже наступило время отпусков. И потом, слава имеет свои градации, не менее четкие, чем переход от неизвестности к успеху. И не на всех ее ступенях одинаково многолюдно.
Парижская публика к тому же вовсе не ждала, что во вступительном слове Эмиля Лартуа или в ответном слове добрейшего Альбера Муайо забьют фонтаны красноречия.
Достигнув известного возраста, люди, пользующиеся определенной репутацией, вынуждены отвечать тому представлению, какое о них сложилось: памфлетист должен писать памфлеты, человек учтивый – проявлять учтивость; даже фантазер, состарившись, обязан предаваться фантазиям.
Вот почему Эмиль Лартуа, помня о том положении, какое он занимал в обществе, произносил негромким голосом хорошо построенные, но в общем пустые фразы, изредка пересыпая свою речь медицинскими терминами и тут же поспешно извиняясь за это. Присутствующие, вполне удовлетворенные, вежливо посмеивались.
Жером Барер, как всегда со всклоченной бородой, в покрытом пятнами зеленом мундире, преспокойно чистил ногти на левой руке большим пальцем правой.
Впереди, перед самой кафедрой, у всех на виду сидел лобастый молодой человек в новенькой визитке; казалось, он был доволен своим местом не меньше, чем новый академик своим. Это был Симон Лашом, он представлял своего министра, задержавшегося на заседании комиссии палаты депутатов. Хотя смены кабинета с начала года не произошло, внутреннее перемещение позволило Анатолю Руссо в девятый раз получить портфель министра: он в четвертый раз стал министром просвещения. Симон за свою верность был назначен помощником начальника канцелярии министра; он сделался лицом сугубо официальным и сменил очки в металлической оправе на очки в черепаховой оправе. О нем уже начинали говорить в Париже.
Большинство публики составляли дамы; среди присутствующих были также и неудачливые претенденты, дважды или трижды терпевшие поражение на выборах в Академию; однако они не отчаивались и именно благодаря частым своим провалам в конце концов стали чувствовать себя в Академии как дома; в зале находились также писатели, считавшиеся еще молодыми, хотя им было уже под пятьдесят; лет десять назад они уверяли, что ни за какие блага их не заманят в эту богадельню, а теперь все же приходили подышать пыльной атмосферой бессмертия, взвесить свои шансы и определить препятствия.
Все эти кандидаты – будущие и настоящие – озабоченно изучали лица академиков, силясь угадать, чье кресло освободится раньше других.
– Бедняга Лоти ужасно выглядит, вы не находите? – с лицемерным сочувствием прошептал на ухо своей соседке какой-то романист.
А тридцать с лишним знаменитостей, слушая речь своего нового коллеги, разглядывали сидевших в первых рядах людей со сравнительно молодыми физиономиями и думали: «Смотрите-ка, они осмелились прийти сюда, эти мальчишки. Мы им покажем, что взобраться на Олимп не так-то просто, как они воображают». Ибо прежде, чем уступить свое место, старики собирались поиграть в занимательную игру: пусть-ка претенденты, принадлежащие к следующему поколению, люди с седеющими висками, выстроятся в ряд и, обгоняя друг друга, подобно лошадям на скачках, устремятся через весь Париж к Академии, меж тем как сами академики будут спокойно восседать в своих креслах и любоваться этим зрелищем.
Госпожа де Ла Моннери сидела в обществе своей дочери – молодой баронессы Шудлер – и своей племянницы Изабеллы на жестких деревянных стульях внизу, посреди маленького зала, рядом со вдовой Домьера, в кругу близких друзей нового академика; вид у нее был недовольный и осуждающий, потому что Лартуа, по ее мнению, говорил слишком тихо и можно было уловить лишь обрывки его речи.
– И вот этот человек, истинный баловень судьбы, – читал Лартуа, – счастливый муж, отец, брат, любимец друзей, писатель, окруженный всеобщим восхищением, которого ежегодно осыпали почестями, был, несмотря на все это, певцом печали, так как ему открылась печальная сущность жизни. Неумолимый бег времени был для Жана де Ла Моннери постоянным источником грусти; рождение, а затем смерть всего живого оставались для него извечной загадкой. Молодость и радость обманчивы, они слишком быстротечны. Бог даровал человеку, своему созданию, лишь преходящие блага, ибо, не дав ему, вернее, отняв у него вечность, он лишил его возможности долго ими наслаждаться. Вот что характерно для мировоззрения вашего знаменитого собрата, как и для Ламартина, с которым его многое роднит. Недаром Жан де Ла Моннери недавно был назван в произведении проницательного критика поэтом четвертого поколения романтиков…
Симон Лашом почувствовал, что краснеет от удовольствия: оратор намекал на его диссертацию, так Лартуа отблагодарил его за статью-некролог. Изабелла бросила взгляд на Симона, но он этого не заметил.
– Для вашего знаменитого собрата человек – падший ангел… – продолжал Лартуа. – Но распад, по его мнению, нечто не только присущее природе человека, но и неотделимое от самого процесса жизни. С какой горечью, с какой беспощадностью поэт описывает этапы этого распада – постепенное разрушение тканей, незаметное на первый взгляд притупление чувств, полную утрату надежд. Целых пятьдесят лет Жан де Ла Моннери наблюдал на себе самом, как стареет человек.
Лартуа не спеша перевернул страницу и откашлялся.
– Но этот неотступный страх перед старостью, граничащий, если можно так выразиться, с психозом, – произнес он более отчетливо и громко, – счастье для тех, кто его испытывает, ибо он избавляет их от неотступного страха перед смертью, угнетающего столь многих.
Лартуа помолчал, ожидая гула одобрения и возгласов «Прекрасно… прекрасно…», которые должна была вызвать эта мысль, казавшаяся ему психологически необычайно тонкой.
Но зал ответил лишь грозной тишиной. Не равнодушной, а враждебной. Тишиной, не нарушаемой ни кашлем, ни шелестом одежды; тишиной, в которой каждый, казалось, мог услышать биение собственного сердца. Лартуа почувствовал, как на него устремились многочисленные недоброжелательные взгляды; даже его «крестный отец», историк с грязными ногтями, и тот сурово посмотрел на него.
А ведь при предварительном чтении в узком кругу эта мысль прошла незамеченной. Но сейчас, прочитанная нарочито громко, чтобы произвести впечатление на широкую аудиторию, фраза внезапно прозвучала совершенно необычно, странно и произвела нежелательный эффект.
Есть вещи, о которых не принято говорить или, во всяком случае, которые не принято называть своими именами; и слова о страхе смерти здесь, среди всех этих сгорбленных стариков и женщин с увядающими лицами, были восприняты как бестактность, позволительная разве лишь студенту-медику и куда более неуместная, чем непристойность.
Они и без того отлично знали, как силен был в них этот страх! Эссеист, мнивший себя последователем Вольтера, никогда не засыпал, не прочитав на ночь молитвы, заученной с детства; философ с воротником, всегда осыпанным перхотью, каждый вечер тщательно измерял температуру; Морис Баррес ночи напролет ходил по спальне в кальсонах, стараясь отогнать обуревавший его страх; драматург не расставался даже за обедом с лекарствами в пяти пузырьках. Всем им, конечно, была отлично знакома эта граничившая с психозом боязнь смерти! А поспешность, с какой они закрывали окна при малейшем сквозняке, а их испуг перед черной кошкой, перебежавшей им дорогу, перед встреченным священником или похоронными дрогами, а их желание заплакать при виде красивого пейзажа, сада Тюильри, ребенка, играющего в серсо, лодки, плывущей по Сене, муравья, что тащит былинку! В такие минуты комок подступал у них к горлу и они думали: «Скоро я ничего уже не увижу!» Зачем же надо было об этом напоминать? И особенно сейчас, когда им удалось забыться. Ибо торжественная обстановка, царившая при их появлении в зале, сознание, что они окружены почетом и завистью, что они входят в число сорока наиболее знаменитых людей страны, которую они все еще считали самой прославленной и самой цивилизованной в мире, – все это вытесняло у них на миг мысль о неизбежности смерти. Когда проходит время любовных утех, только удовлетворенное тщеславие способно дать человеку радость или, по крайней мере, развлечь его.
Нет! Никто никогда не признается в том, что страшится смерти, и эта сдержанность вовсе не есть достоинство, как кое-кто утверждает, а лишь боязнь отпугнуть тех, на чью помощь рассчитывают. Ребенок, который боится минуты, когда погасят свет, уверяет мать, будто он из любви к ней хочет, чтобы она пришла и посидела возле него; солдат, во все горло распевающий непристойную песенку, высовываясь из вагона, просто силится заглушить тревогу, что надрывает ему душу, как вой испорченной сирены; женщина, которая прижимается к теплому телу любовника, и старая супружеская чета, все еще продолжающая спать в одной постели, именуют свой страх любовью. Никто, никто не хочет в этом признаться из боязни остаться одиноким, словно зачумленный, ибо и мать, и любовник, и солдат – все они тоже боятся! Цивилизация, города, чувства, изящные искусства, законы и армии – все рождено страхом, и особенно высшей его формой – страхом смерти.
Таков примерно был ход мыслей всех присутствующих здесь стариков, в большинстве своем профессиональных наблюдателей природы человека. И они с трудом заставляли себя слушать продолжение речи.
И сам Лартуа, читая написанные им слова, не слышал больше, как они звучат. Молчание собравшихся вызывало в нем ту же тревогу, какую он сам в них пробудил. Он сбился дважды или трижды, потому что, читая, думал: «К чему же это? И что я, собственно, тут делаю? Зачем, зачем? А ведь я так желал попасть сюда. И вот я здесь! Какая суета! Сколько здесь больных и немощных!» Такой приступ отчаяния был совершенно необъяснимым именно теперь, когда осуществлялась его многолетняя мечта, когда он занял наконец место, к которому так страстно стремился.
Окончание его речи было встречено положенными по ритуалу аплодисментами; однако собравшиеся почувствовали подлинное облегчение лишь после того, как добрейший Альбер Муайо взобрался на кафедру и начал читать, поправляя пенсне:
– Милостивый государь! Виконт де Шатобриан, занимавший в прошлом то самое кресло, в котором мы имеем честь видеть сегодня вас, пишет в своих мемуарах: «При жизни Гиппократа, гласит надгробная надпись, в аду было мало обитателей; по милости наших современных Гиппократов там наблюдается избыток населения». Будь господин Шатобриан знаком с вами, пересмотрел ли бы он свое суждение? Что касается меня, милостивый государь, то я верю, что да…
Зал сразу оживился. Все почувствовали себя лучше. И сам Лартуа обрел привычную уверенность, услышав, как воздают хвалу его талантам.
Альбер Муайо дребезжащим голосом восхвалял необыкновенные достоинства жизнеописания знаменитого врача Лаэнека, автором которого был Лартуа; он коснулся даже его докторской диссертации о заболеваниях привратника желудка, но не стал ее подробно разбирать, а лишь оценил как «важный вклад в благородную науку врачевания».
Новоиспеченный академик холеной рукой приглаживал свою седую шевелюру.
9
Лартуа с сожалением снял шпагу и мундир. Он бы охотно не снимал их всю жизнь. Себе в утешение он подсчитал, что в среднем при десяти ежегодных церемониях ему предстоит еще надевать мундир по меньшей мере раз сто, а то и все сто пятьдесят. Его отец умер семидесяти пяти лет, мать – семидесяти девяти…
Он пригласил десяток друзей на обед в отдельный кабинет ресторана «Риц». Все они снова и снова восхищались элегантностью его мундира; надо сказать, что это обстоятельство подчеркивали в своих кратких отчетах о церемонии и вечерние газеты, где мелькали выражения: «Светло-зеленый мундир профессора Лартуа… Профессор Лартуа – истинный денди Академии…»
– Видите ли, – говорил Лартуа, усаживаясь за стол, – у меня было два выхода. Или приобрести мундир покойного коллеги…
С каким удовольствием употреблял он теперь термин «коллега», говоря о тех, кто входил в храм славы Франции, созданный еще при Ришелье!
– …или же заказать себе новый. Носить одежду с чужого плеча не слишком приятно, особенно если умерший не близкий ваш друг. Ах! Если бы это был мундир бедняги Жана… – продолжал он, повернувшись к госпоже Этерлен, которая, как и Симон, находилась в числе приглашенных. – Правда, у нас с Жаном были разные фигуры… И тогда я сказал себе: «К черту скупость! Ведь для Академии я в сущности еще юноша, закажем же себе новый мундир!»
Он говорил несколько громче, чем обычно, ибо никак не мог избавиться от ораторского тона, которым произносил свое вступительное слово.
Обед по случаю какого-нибудь счастливого события, как, впрочем, и в дни рождения и Нового года, обычно дает повод для горьких размышлений. Тот, кто получил премию в консерватории или кубок на теннисных состязаниях, кто был избран в парламент либо в Академию, редко может провести этот вечер среди тех, кого он хочет видеть. На него всегда обрушивается поток преувеличенных любезностей; замечая вокруг чрезмерно сияющие лица, триумфатор с задумчивым видом пьет свое шампанское.
А когда он решает пригласить сразу всех: и своих родственников, и родственников жены, старых, необыкновенно обидчивых друзей, любовницу, мужа любовницы, новых приятелей, – то видит вокруг себя одни лишь каменные лица.
Для Лартуа не существовало проблемы такого рода. Всю его родню составляла сестра, старая дева, которая жила в Провене и не сочла нужным приехать в Париж. У него не было ни жены, ни детей, а смерть уже избавила его от большинства друзей молодости. Что касается любовниц, то они слишком мало значили для него в этот период, когда единственной его страстью стала Академия.
Вот почему Лартуа имел все основания просто и бездумно наслаждаться своим успехом. Все говорили только о нем, о его речи, об ответном слове; да и сам он чувствовал себя вправе ни о чем ином не говорить, кроме собственной персоны.
Жером Барер, у которого накрахмаленная манишка топорщилась под бородой, а губы лоснились от соуса, кричал:
– А знаете, что он будет делать нынче вечером после такого дня? Читать Евангелие на греческом!
– Если бы это было известно заранее, Эмиль, – подбавила фимиама жена историка, особа с лошадиным лицом, у которой при разговоре обнажались огромные бледные десны, – я уверена, вы были бы избраны в первом же туре.
Лартуа почувствовал, что его радость дала первую трещину. «Да, – подумал он, – очень скоро я возьму в руки Евангелие, потому что, читая по-гречески, я ни о чем не думаю».
Перед его глазами мелькнул черный рукав метрдотеля, разливавшего бургундское. Лартуа слышал голос Симона, небесный шепот Мари Элен Этерлен и страстные выкрики полупомешанной княгини Тоцци: несмотря на свои пятьдесят четыре года и морщинистое лицо, она столь пылко взирала на мужчин, что приводила их в смущение… Все они скоро уйдут и оставят его одного.
Его страшила минута, когда он снова окажется в одиночестве, в тишине своей квартиры на авеню Иены, отделенный плотно закрытыми дверьми от погрузившегося в сон огромного улья, населенного дружными семьями и влюбленными парочками. В обычные дни это его мало трогало; напротив, ему зачастую даже нравилось оставаться наедине с собственным отражением в зеркале. Но в этот вечер такая перспектива вдруг показалась ему невыносимой. Стеклянный колпак одиночества, который опустился на него днем среди царившей в зале тягостной тишины, казалось, вновь отделил его от гостей; нервы были так напряжены после событий ушедшего дня, что тонкие кушанья и вина не могли оказать на него благотворное воздействие. «Отныне меня всегда станут сажать по правую руку хозяйки дома, мои статьи будут оплачиваться вдвойне, мое имя поместят в словаре Ларусса… И все же потом… меня забудут… и, так или иначе, сегодня вечером я буду совсем один… Постараемся же блеснуть…»
Он прибегнул к обычному приему стареющих острословов и разразился каскадом коротких и пряных анекдотов, жонглируя своими воспоминаниями, перемешивая гривуазное с трагическим, искусно играя словами. Сидевшие за столом говорили: «Право же, когда Лартуа в ударе, он просто неподражаем!»
– О, Эмиль! Расскажи нам историю с поездом! – воскликнула княгиня Тоцци.