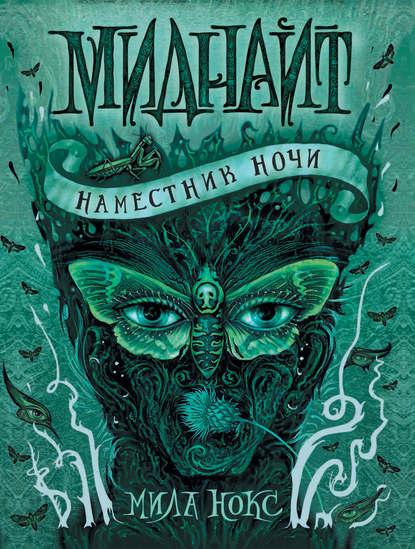По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И нашел мир, о котором говорил брату и остальным столько раз, столько лет – и он не спит! Нет, не спит.
Франциск вернулся к темной двери и протянул брату руку. Тот заколебался и несмело оглянулся, словно не решаясь покинуть тоскливую, но такую родную Англию. Но пару секунд спустя все же сделал решительный шаг и встал рядом с Францем в ином мире – сказочном, полном чарующих ароматов и звуков, от которых голова шла кругом.
Франциск подхватил Филиппа за локоть и заглянул в лицо близнеца, чувствуя, как губы расплываются в широкой улыбке. Филипп выглядел потрясенным до глубины души, но Франц уже немного отошел от дурманящего запаха волшебства. Его еще потряхивала дрожь, так он был счастлив, так хотел остановить это мгновение счастья навечно, навечно!
– Я что, сплю? – тихо проговорил Филипп, изумленно глядя на огромную мельницу.
Ветер продолжал петь свою песню, добавив в переливы невидимых струн еще и ударные – кристально чистый плеск водопадиков, срывающихся с лопастей.
– Нет. – Франц улыбался, едва сдерживаясь, чтобы не заорать в голос от восторга и не пуститься в пляс. – Нет, ты не спишь! – И наконец произнес фразу, которую до боли, до отчаяния, до слез мечтал сказать так давно. – Я же говорил тебе – волшебство существует!
Братья медленно пошли по густому серебряному ковру из трав и папоротника к тропинке, ведущей в сторону леса. Слух в этом мире, казалось, обострился во сто крат: Францу чудилось, что ступает он не по обычной траве, а по бархатной, шелестящей мягко и обволакивающе, словно ткань дорогого платья богатой дамы. Он готов был слушать шелест бархатистой травы до конца своих дней. И до конца дней своих он хотел бы вдыхать ни с чем не сравнимый аромат, который прежде даже представить не мог, – да и был ли в его мире хоть один парфюмер, который смог бы повторить такое сочетание запахов?
В этом аромате, аромате волшебства нельзя было различить ноты имбиря или жимолости, не расслышать цедры или же хвои. Это был единый, обволакивающий серебряным туманом запах, который Франциск хотел вдыхать и вдыхать, наполняя легкие, и ему казалось, он никогда не сможет надышаться этим миром.
Его миром, только его.
Дверь сюда отыскал именно он, простой мальчишка, родившийся на одной из лондонских улочек. Самый обычный мальчик по имени Франциск Бенедикт Фармер, который отличился лишь тем, верил в свою мечту долгие годы.
Франциск не сразу услышал шепот. Очнулся, лишь когда брат коснулся плеча.
– Слышишь?
– Что?
Франц слышал только чарующую мелодию ветра, которая постоянно повторялась, будто кто-то невидимый и могущественный играл увертюру для ночного мира, наполняя поднебесье величественными звуками.
Но Филипп, в голосе которого сквозила тревога, явно различал что-то еще.
– Там, кажется…
И он дрожащим пальцем указал на угол мельницы. Франциск двинулся в ту сторону и вдруг различил сквозь могучую песнь ветра иной звук. Чарующее полотно прерывали всхлипы. Там, за поворотом, кто-то плакал.
Мальчики переглянулись. Странно было слышать в сказочном лесу плач. Невидимка стонал, хныкал, стихал, будто в попытке удержать рыдания, и тут же вновь давился слезами.
Франц сначала растерялся, но потом подумал, что тот, кто плачет, не может быть опасен, и пошел на звук рыданий. Младший брат засеменил следом. Когда близнецы заглянули за угол, им сначала показалось, что возле задней стены мельницы возвышается округлый холм, поросший синевато-серебристой травой. Но вот холм вздрогнул и затрясся, и Франциск с изумлением понял, что это живое существо. Присмотревшись, он различил, как длинные пальцы перебрали пустоту, будто попытавшись что-то спрясть из потоков воздуха, а затем обмякли. Когда рука двигалась, на запястье поблескивал металлический обруч, от которого к вбитому в стену мельницы кольцу шла ржавая цепь.
Из глубины холма донеслись приглушенные рыдания, и Франциск оглянулся на Филиппа. Брат притаился возле угла, вжав голову в плечи, и с опаской посматривал на пленника.
Наконец Франц решился. Он откашлялся и шаркнул ногой, дав понять, что у плачущего есть свидетели.
Пленник замер. Франциск снова кашлянул. В темной глубине холма вспыхнули два огромных глаза, и мальчик отпрянул. Существо же глядело на него, не издавая ни звука.
Мелодия ветра изменилась.
Предыдущая увертюра была окончена, и ветер заиграл новую – тихую и настораживающую, от которой по коже побежали мурашки. Лес вокруг смолк и прислушался, а плеск мельничного колеса утерял свое кристальное звучание и влился в песню иначе – холодными и мерными ударами.
– К-кто вы?
Франц храбрился, но голос прозвучал робко и тихо.
Эти глаза… Странные… Пугающие…
Глазные яблоки походили на выдутые из прозрачного стекла светильники. Выпуклые. Серебристо-белые. Без зрачков, зато с пятнами, точь-в-точь такими, как на луне. Глаза-луны глядели не мигая. Сначала осмотрели Франца. Затем метнулись к Филиппу, и тот, съежившись, прижался к стене.
Наконец существо зашевелилось и привстало, оказавшись больше обоих вместе взятых мальчишек. Его руки, поросшие серебристым мехом, были длинными и могучими. Голову венчали рога. Широкое скуластое лицо покрывала шерсть, переходя в длинную серебристую бороду, которая – что странно! – была разделена на пряди, заплетенные в аккуратные косицы. Тут и там в них блестели бубенцы – точь-в-точь как те, какими на Рождество зажиточные люди украшают елку. Бубенцы были из чистого серебра, это Франциск сразу понял, потому что видел подобные в витринах, когда гулял накануне праздника в центре города. Да и звук…
Когда существо чуть повернуло голову, бубенчики поменьше издали переливчатое «теньк-теньк», те, что покрупнее – «звяк-звяк», а самые крупные кругляши откликнулись басом: «бумц-бумц». Пленник тряхнул бородой сильнее, и все вокруг наполнилось мелодичным, совершенно сказочным перезвоном.
Пленник поднял руку, которая была в десять раз толще руки Франца. Пальцы с острыми когтями утерли слезу с уголка лунного глаза. Пока мальчишки разглядывали незнакомца, в густой бороде пленника успело скрыться немало таких слез, и каждая сбегала по мохнатой щеке крупной блестящей жемчужиной.
Существо шмыгнуло носом.
– Кто я?
Голос – вот удивительно! – оказался звонкий, серебристый и вовсе не подходил монстру. Франц ожидал, что из нутра существа вырвется по меньшей мере рык или утробный рев, подходящий какому-нибудь минотавру. Но это оказался самый мелодичный голос, который он когда-либо слышал. Тонкий, дрожащий. Даже жалобный.
– Кто я…
На мгновение пленник задумался. Громадные глаза вновь наполнились слезами, монстр, загремев цепями, закрыл лицо ладонями и горько расплакался.
Франциск переглянулся с братом, кивнул на пленника и хотел было шагнуть к нему, но Филипп отчаянно замотал головой.
Гигант рыдал, позабыв, что тут кто-то есть, и плач этот был столь печальным, что в сердце Франциска больно кольнуло, точно иголочкой.
Вскоре существо подняло голову:
– Разве… разве вы не знаете, кто я? Как бессердечно с вашей стороны напоминать мне, что я – Калике. Тот самый, что некогда владел всем поднебесьем от Мельницы и до Северных гор. Тот, кто прежде был силен сыграть любую мелодию, какую только мог – или не мог! – вообразить себе кто-либо из живущих в стране невосходящего солнца – от малейшего из айсидов до самого Черного Кика! Ах!
Тот, кто назвал себя Каликсом, простер когтистые руки к звездному небу. Слезы струились по его странному, причудливому лицу, блестя на мохнатых щеках. Франциск попытался запомнить новые слова. Очень уж непонятно монстр изъяснялся! Калике бормотал и причитал на все лады, заливаясь слезами, которые гигантскими жемчужинами катились по бороде и терялись между многочисленных косичек.
– Ох, горе мне, горе. Что же делать? На веки вечные прикован я к Великой Мельнице, да будет тень ее бесконечна, и никогда мне более не ощутить силу ветра в своих руках, никогда не взмыть ввысь, чтобы пронестись вихрем над прекрасными лугами и лесами Полуночи! Горе мне, о горе! И теперь любая козявка, любой мимикр может выползти из своей жалкой норы, притащиться сюда и стоять в каком-то дюйме от меня, чтобы плевать в самого Каликса Мизери! Любой может осыпать меня ругательствами, покрыть плевками мою голову. И что же мне делать? Не могу я сбежать. Негде укрыться от позора – один я у Великой реки, один-одинешенек. Прикован к Великой Мельнице, чтобы плакать ночь за ночью, горюя о своем утерянном величии…
Гигант поднял на мальчиков полные отчаяния глаза. Губы его скривились от обиды.
– Что стоите и смотрите? Коли пришли плевать и швыряться камнями – сделайте уже свое черное дело да ступайте на все четыре стороны, чтобы мог я наконец оттереть ваши плевки и зализать свои раны.
Калике шмыгнул носом.
– Эй… мы не собираемся плеваться. И камней у нас нет.
Серебристый монстр прищурил лунные глазищи, будто кот. Насторожился.
– Что же, вы принесли огонь? Хотите бросить лучину, чтобы подпалить мою шерстку?
Франц и Филипп переглянулись.
– Н-нет!
Франциск вернулся к темной двери и протянул брату руку. Тот заколебался и несмело оглянулся, словно не решаясь покинуть тоскливую, но такую родную Англию. Но пару секунд спустя все же сделал решительный шаг и встал рядом с Францем в ином мире – сказочном, полном чарующих ароматов и звуков, от которых голова шла кругом.
Франциск подхватил Филиппа за локоть и заглянул в лицо близнеца, чувствуя, как губы расплываются в широкой улыбке. Филипп выглядел потрясенным до глубины души, но Франц уже немного отошел от дурманящего запаха волшебства. Его еще потряхивала дрожь, так он был счастлив, так хотел остановить это мгновение счастья навечно, навечно!
– Я что, сплю? – тихо проговорил Филипп, изумленно глядя на огромную мельницу.
Ветер продолжал петь свою песню, добавив в переливы невидимых струн еще и ударные – кристально чистый плеск водопадиков, срывающихся с лопастей.
– Нет. – Франц улыбался, едва сдерживаясь, чтобы не заорать в голос от восторга и не пуститься в пляс. – Нет, ты не спишь! – И наконец произнес фразу, которую до боли, до отчаяния, до слез мечтал сказать так давно. – Я же говорил тебе – волшебство существует!
Братья медленно пошли по густому серебряному ковру из трав и папоротника к тропинке, ведущей в сторону леса. Слух в этом мире, казалось, обострился во сто крат: Францу чудилось, что ступает он не по обычной траве, а по бархатной, шелестящей мягко и обволакивающе, словно ткань дорогого платья богатой дамы. Он готов был слушать шелест бархатистой травы до конца своих дней. И до конца дней своих он хотел бы вдыхать ни с чем не сравнимый аромат, который прежде даже представить не мог, – да и был ли в его мире хоть один парфюмер, который смог бы повторить такое сочетание запахов?
В этом аромате, аромате волшебства нельзя было различить ноты имбиря или жимолости, не расслышать цедры или же хвои. Это был единый, обволакивающий серебряным туманом запах, который Франциск хотел вдыхать и вдыхать, наполняя легкие, и ему казалось, он никогда не сможет надышаться этим миром.
Его миром, только его.
Дверь сюда отыскал именно он, простой мальчишка, родившийся на одной из лондонских улочек. Самый обычный мальчик по имени Франциск Бенедикт Фармер, который отличился лишь тем, верил в свою мечту долгие годы.
Франциск не сразу услышал шепот. Очнулся, лишь когда брат коснулся плеча.
– Слышишь?
– Что?
Франц слышал только чарующую мелодию ветра, которая постоянно повторялась, будто кто-то невидимый и могущественный играл увертюру для ночного мира, наполняя поднебесье величественными звуками.
Но Филипп, в голосе которого сквозила тревога, явно различал что-то еще.
– Там, кажется…
И он дрожащим пальцем указал на угол мельницы. Франциск двинулся в ту сторону и вдруг различил сквозь могучую песнь ветра иной звук. Чарующее полотно прерывали всхлипы. Там, за поворотом, кто-то плакал.
Мальчики переглянулись. Странно было слышать в сказочном лесу плач. Невидимка стонал, хныкал, стихал, будто в попытке удержать рыдания, и тут же вновь давился слезами.
Франц сначала растерялся, но потом подумал, что тот, кто плачет, не может быть опасен, и пошел на звук рыданий. Младший брат засеменил следом. Когда близнецы заглянули за угол, им сначала показалось, что возле задней стены мельницы возвышается округлый холм, поросший синевато-серебристой травой. Но вот холм вздрогнул и затрясся, и Франциск с изумлением понял, что это живое существо. Присмотревшись, он различил, как длинные пальцы перебрали пустоту, будто попытавшись что-то спрясть из потоков воздуха, а затем обмякли. Когда рука двигалась, на запястье поблескивал металлический обруч, от которого к вбитому в стену мельницы кольцу шла ржавая цепь.
Из глубины холма донеслись приглушенные рыдания, и Франциск оглянулся на Филиппа. Брат притаился возле угла, вжав голову в плечи, и с опаской посматривал на пленника.
Наконец Франц решился. Он откашлялся и шаркнул ногой, дав понять, что у плачущего есть свидетели.
Пленник замер. Франциск снова кашлянул. В темной глубине холма вспыхнули два огромных глаза, и мальчик отпрянул. Существо же глядело на него, не издавая ни звука.
Мелодия ветра изменилась.
Предыдущая увертюра была окончена, и ветер заиграл новую – тихую и настораживающую, от которой по коже побежали мурашки. Лес вокруг смолк и прислушался, а плеск мельничного колеса утерял свое кристальное звучание и влился в песню иначе – холодными и мерными ударами.
– К-кто вы?
Франц храбрился, но голос прозвучал робко и тихо.
Эти глаза… Странные… Пугающие…
Глазные яблоки походили на выдутые из прозрачного стекла светильники. Выпуклые. Серебристо-белые. Без зрачков, зато с пятнами, точь-в-точь такими, как на луне. Глаза-луны глядели не мигая. Сначала осмотрели Франца. Затем метнулись к Филиппу, и тот, съежившись, прижался к стене.
Наконец существо зашевелилось и привстало, оказавшись больше обоих вместе взятых мальчишек. Его руки, поросшие серебристым мехом, были длинными и могучими. Голову венчали рога. Широкое скуластое лицо покрывала шерсть, переходя в длинную серебристую бороду, которая – что странно! – была разделена на пряди, заплетенные в аккуратные косицы. Тут и там в них блестели бубенцы – точь-в-точь как те, какими на Рождество зажиточные люди украшают елку. Бубенцы были из чистого серебра, это Франциск сразу понял, потому что видел подобные в витринах, когда гулял накануне праздника в центре города. Да и звук…
Когда существо чуть повернуло голову, бубенчики поменьше издали переливчатое «теньк-теньк», те, что покрупнее – «звяк-звяк», а самые крупные кругляши откликнулись басом: «бумц-бумц». Пленник тряхнул бородой сильнее, и все вокруг наполнилось мелодичным, совершенно сказочным перезвоном.
Пленник поднял руку, которая была в десять раз толще руки Франца. Пальцы с острыми когтями утерли слезу с уголка лунного глаза. Пока мальчишки разглядывали незнакомца, в густой бороде пленника успело скрыться немало таких слез, и каждая сбегала по мохнатой щеке крупной блестящей жемчужиной.
Существо шмыгнуло носом.
– Кто я?
Голос – вот удивительно! – оказался звонкий, серебристый и вовсе не подходил монстру. Франц ожидал, что из нутра существа вырвется по меньшей мере рык или утробный рев, подходящий какому-нибудь минотавру. Но это оказался самый мелодичный голос, который он когда-либо слышал. Тонкий, дрожащий. Даже жалобный.
– Кто я…
На мгновение пленник задумался. Громадные глаза вновь наполнились слезами, монстр, загремев цепями, закрыл лицо ладонями и горько расплакался.
Франциск переглянулся с братом, кивнул на пленника и хотел было шагнуть к нему, но Филипп отчаянно замотал головой.
Гигант рыдал, позабыв, что тут кто-то есть, и плач этот был столь печальным, что в сердце Франциска больно кольнуло, точно иголочкой.
Вскоре существо подняло голову:
– Разве… разве вы не знаете, кто я? Как бессердечно с вашей стороны напоминать мне, что я – Калике. Тот самый, что некогда владел всем поднебесьем от Мельницы и до Северных гор. Тот, кто прежде был силен сыграть любую мелодию, какую только мог – или не мог! – вообразить себе кто-либо из живущих в стране невосходящего солнца – от малейшего из айсидов до самого Черного Кика! Ах!
Тот, кто назвал себя Каликсом, простер когтистые руки к звездному небу. Слезы струились по его странному, причудливому лицу, блестя на мохнатых щеках. Франциск попытался запомнить новые слова. Очень уж непонятно монстр изъяснялся! Калике бормотал и причитал на все лады, заливаясь слезами, которые гигантскими жемчужинами катились по бороде и терялись между многочисленных косичек.
– Ох, горе мне, горе. Что же делать? На веки вечные прикован я к Великой Мельнице, да будет тень ее бесконечна, и никогда мне более не ощутить силу ветра в своих руках, никогда не взмыть ввысь, чтобы пронестись вихрем над прекрасными лугами и лесами Полуночи! Горе мне, о горе! И теперь любая козявка, любой мимикр может выползти из своей жалкой норы, притащиться сюда и стоять в каком-то дюйме от меня, чтобы плевать в самого Каликса Мизери! Любой может осыпать меня ругательствами, покрыть плевками мою голову. И что же мне делать? Не могу я сбежать. Негде укрыться от позора – один я у Великой реки, один-одинешенек. Прикован к Великой Мельнице, чтобы плакать ночь за ночью, горюя о своем утерянном величии…
Гигант поднял на мальчиков полные отчаяния глаза. Губы его скривились от обиды.
– Что стоите и смотрите? Коли пришли плевать и швыряться камнями – сделайте уже свое черное дело да ступайте на все четыре стороны, чтобы мог я наконец оттереть ваши плевки и зализать свои раны.
Калике шмыгнул носом.
– Эй… мы не собираемся плеваться. И камней у нас нет.
Серебристый монстр прищурил лунные глазищи, будто кот. Насторожился.
– Что же, вы принесли огонь? Хотите бросить лучину, чтобы подпалить мою шерстку?
Франц и Филипп переглянулись.
– Н-нет!
Другие электронные книги автора Мила Нокс
Игра в сумерках




 3.67
3.67