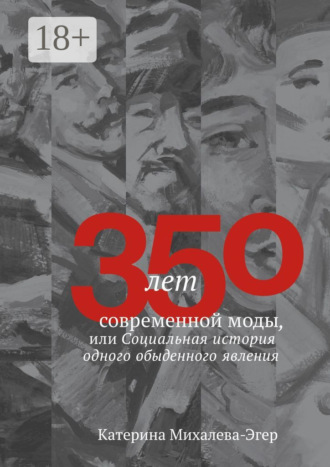
350 лет современной моды, или Социальная история одного обыденного явления
«Я поразмыслил над тем, насколько безрассуден тот, кто осмеливается подвергать такой опасности, присваивая чужое добро и вводя самого себя в смертный грех, ибо он ложится спать, не зная, не очутится ли он на дне морском»180.
Всё еще более усложнялось своеобразными, сказочными, фантастическими географическими представлениями средневекового человека о том, что находилось за пределами Европы и Средиземноморского бассейна, связанными с особой теологической концепцией мира, где три части Земли – Европа, Азия и Африка – отождествлялись с определенным религиозным пространством. Ле Гофф пишет, что считалось, будто «пупом мира» является Иерусалим, а восток, который на картах помещали наверху, на месте Северного полюса, имеет высшей точкой некую гору, позже идентифицированную как Такт-и-Сюлейман в Азербайджане, где находится край земли, и откуда вытекают Тигр, Евфрат, Фисон (скорее всего, это Ганг) и Геон (Нил). Вообразите себе представления о мире даже самой образованной европейской элиты XIII в., к которой принадлежал и Жуанвиль, если в рассказе о Седьмом Крестовом походе (1248—1254 гг.), он так описывает реку Нил:
«Подобает теперь повести речь о реке, которая пересекает Египет и вытекает из земного рая… В том месте, где Нил проникает в Египет, местные жители имеют обыкновение расставлять по вечерам сети, а поутру находят в них драгоценные предметы, которые они доставляют в страну, как то: имбирь, ревень, алое и корицу. Говорят, что эти пряности происходят из земного рая, падая под ветром с райских деревьев, подобно тому, как ветер ломает в лесу валежник»181.
Для средневекового христианина, бедного и стесненного во всём материальном, богатство было чудом, посланием Рая, которое несправедливо находилось в руках еретиков и отступников, поэтому отнять его было делом справедливым. Восток был мечтой о неземном богатстве, манившей драгоценными металлами, редкими породами деревьев, пряностями, а также фантастическими животными, «голыми королями, обвешанными драгоценностями», сказочными людьми с хвостами, «толстыми, как у собаки», описанными одним из самых знаменитых венецианских купцов-путешественников Марко Поло (1254—1324).
Самым злостным отступником и еретиком, особенно после Великого церковного раскола 1054 г., считался византиец, обладавший при этом несказанными богатствами. Впрочем, и до этого греки вызывали у латинян страшную неприязнь и зависть. В 968 г. посланник Оттона I в Константинополь, епископ Кремонский Лиутпранд, покинув город, с ненавистью в сердце написал:
«Эти дряблые, изнеженные люди, с широкими рукавами, с тиарами и тюрбанами на головах, лгуны, скопцы и бездельники, ходят одеты в пурпур, а герои, люди, полные энергии, познавшие войну, проникнутые верой и милосердием, покорные Богу, преисполненные добродетели, — нет»182.
А причиной такого гнева было унижение, что познал при отъезде Лиутпранд, когда таможенники отняли у него пять пурпурных плащей, вывоз которых был запрещен. Система социального разделения путем ограничения потребления роскоши и строгого декларирования внешних форм презентации статуса одеждой была еще совершенно непонятна человеку Запада в X в. и вызывала гнев и протест своей несправедливостью. Впрочем, позже Запад с охотой воспримет и эту систему и разовьет ее в сложнейшую форму социальной коммуникации, которая послужит одной из основ социального института моды.
В результате изрядная часть рыцарей Второго крестового похода (1147—1149), окончившегося неудачей, стала мечтать о взятии Константинополя и вообще полагала, как епископ Лангрский, что «греки вовсе не были христианами и что убивать их – это меньше, чем ничто». Этот проект и был реализован в 1204 г., когда крестоносцы захватили Константинополь.
Позже европейская мода много раз вдохновлялась впечатлениями от военных походов в новые страны, открытием их культуры, образа жизни, обычаев в одежде. Но ранние средневековые походы были слишком скудны и идеологически «заточены», чтобы стать толчком к серьезным переменам, а промышленность еще не позволяла начать массовое копирование привозных образцов. И всё же именно Восток буквально отравил ум человека Запада завистью и вожделением богатства и роскоши, которую он удовлетворял путем военных захватов и в меньшей степени торговлей, пока не научился производить ее самостоятельно, обогнав своих учителей.
Но если по отношению к христианской Византии, с которой он находился в постоянном контакте, западный человек еще испытывал уколы совести, то в отношении мусульман проблемы с моральной стороной отвоевания у них богатств не было. Мусульманин был для западного христианина врагом Господа, и о мире с ним не могло быть и речи. С XI в. борьба против неверных становится конечной целью рыцарского идеала. А в 1213 г. папа Иннокентий III в булле Четвертого Латеранского собора призвал христиан к Крестовому походу против язычников-сарацин. И тем не менее, через этот «боевой фронт», несмотря на эмбарго, которое накладывало папство на вывоз христианских товаров в мусульманский мир, торговый обмен с мусульманским миром рос. Запреты на вывоз железа, оружия, смолы, дегтя, строительного леса привели к контрабанде.183 В результате папы стали допускать бреши в блокаде, от которой страдал сам Запад, выдавая «лицензии». Больше всех тут выиграли венецианцы, которые, ссылаясь на отсутствие собственных аграрных ресурсов и необходимость торговать для выживания, получили в 1198 г. от папы Иннокентия III разрешение торговать с султаном Александрии.
После того, как итальянцы вытеснили, а вернее сказать – отвоевали у своих восточных соперников торговые пути, пролегающие, прежде всего, между Италией и Левантом, предметы роскоши – специи с Молуккских островов, шелк и фарфор из Китая, парча из Византии, драгоценные камни – по-прежнему преобладали в торговых потоках, идущих с Востока на Запад. Только около XII в. Запад привез с Востока технологии и материалы, прежде всего хлопок, а также метод разведения шелковичных червей, захватывая их часто вместе с ремесленниками-ткачами. Тогда к готовым предметам роскоши добавились уже сырьевые ресурсы текстильного производства: квасцы из Малой Азии для протравы при крашении шерстяных и хлопчатобумажных пряжи и тканей и хлопок-сырец из Сирии.
Торговля родилась из производства или, наоборот, – производство из торговли – в отношении Италии трудно определить однозначно. Но что совершенно точно – основное производство средневекового Запада – это сукно, которое породило итальянских купцов и банкиров.
Однако вплоть до XIII в. и даже позже, пока технические усовершенствования морского транспорта, как, например, внедрение компаса и ахтерштевня, делавшего корабли более маневренными, не произвели еще своего эффекта, его роль, – а значит и роль всей морской торговли, – была весьма скромной. Средние века не знали также квадранта и морской астролябии – инструментов Ренессанса. Весь тоннаж флотов Запада был небольшим, как малы были и сами суда. Даже в XII—XIII вв., с ростом водоизмещения кораблей северных флотов, предназначенных для перевозки габаритных грузов (леса и зерна), вместимость ганзейского когга не превышала 200 тонн. На Средиземноморье венецианцы строили галеры и галеасы – торговые парусно-гребные галеры крупных размеров. Число «больших» галер было невелико. Первая морская держава того времени – Венеция – дважды в год направляла в Англию и Фландрию конвои, состоящие всего из двух-трёх таких кораблей. Общее число купеческих галер, обслуживавших в 20-х гг. XIV в. три главных морских пути, насчитывало около 25 единиц. Так, в 1328 г. восемь кораблей находилось на «заморском» направлении (Кипр и Армения), четыре – на фландрском, и десять – на «романском» (Византия и Черное море).184 Фредерик Лейн в «Золотом веке Венецианской республики» оценивает общий тоннаж венецианского флота XIV в. в 40 тыс. тонн при среднем водоизмещении судна в 150 тонн. Для сравнения: один современный грузовой вагон вмещает около 60—70 тонн груза, так что весь годовой морской товарооборот морской сверхдержавы Средневековья – это около 600 вагонов товара.
В части исторической и экономической литературы бытует мнение, что вместе с ростом городов к концу Средневековья происходит т.н. «возвышение класса буржуазии», чья власть основывалась на деньгах, а не на земле. Я бы назвала это, скорее, не возвышением, а пока только появлением класса буржуа. Об этом мы можем судить и по моде конца Средневековья в значении «способ», «образец», как маркер социального статуса. Поначалу, в середине XII в., перемены становятся заметными, прежде всего в визуальном отделении класса феодалов, как ранее – класса церковников. Английский хронист Ордерик Виталий (1075—1142), автор «Церковной истории» – одного из важнейших источников информации об истории Нормандии и Англии, – в начале XII в. возмущался изменениями в костюме феодалов: удобная короткая одежда сменилась длинным платьем. Туалеты стали более «вебленовскими»185, подчеркивавшими усиливающуюся праздность класса феодалов, противопоставив его людям труда. Удлинились носки туфель, рубашки и плащи, которые порой волочились за их обладателем, расширились и удлинились рукава. В моду вошли длинные волосы. Эти изменения в костюме знати произошли не вдруг, и объясняются ее особым положением в общественной иерархии, которое было постепенно осознано и выражено в соответствующем визуальном коде.
Длина одежды – лишь одно из проявлений «революции костюма». Второй ее аспект – начало производства новых видов ткани: шелка и хлопка. До XII в. шелк, как отмечалось ранее, завозился с Востока и был запредельно дорогим. В середине XII в. Западу удается создать собственные производства шелковых тканей на Сицилии, в Палермо, в тосканской Лукке, а в XIII в. – во Франции и Германии. Как следствие – расширение экономики, появление «жирка» у производителей. И вот здесь и начинается то самое «возвышение класса буржуазии», хотя пока это были лишь зажиточные ремесленники и торговцы.
К концу Средневековья Запад научился производить текстиль более высокого качества: из хлопка получали не только рядовые ткани, но и дорогой моллекин. Из льна и шерсти научились выделывать высококлассную ткань, такую как льняной дамаск. С XII в. домотканая одежда остается лишь в крестьянском обиходе. Феодалы и зажиточные горожане выбирают для себя созданные ремесленниками готовые ткани.
Еще одной переменой в костюме было усиление орнаментальных мотивов в одежде, что также свидетельствует о появлении некоторой «избыточности» в костюме. Блио не только само украшалось вышивкой, но и кроилось так, чтобы его ворот был открытым, а подол – более коротким и позволял бы выглядывать орнаменту по вороту и подолу нижней рубахи – шенса.
Так называемый «аристократизм» костюма XII в. особенно ярко проявился в женском платье: шенс и блио удлинились до пола, оставив открытыми только длинные острые мысы мягких кожаных туфель. Блио практически обтянуло торс наподобие корсета, а его низ от бедер шился из другого куска ткани, что стало первым прообразом юбки. Узкие сверху рукава от локтя резко расширялись, ниспадая порой до пят. Одежда подчеркивала женственность фигуры, одновременно давала визуальную легкость движений, делая ее элегантной.
На рубеже XII—XIII вв. т.н. «аристократическая мода» дополняется новым типом костюма: начинается эпоха сукна. Вот тут и появляется наш новый герой – зажиточный горожанин-купец, облаченный в сукно. Его костюм отличает скульптурная простота и основательность одеяний из тяжелого шерстяного сукна. Это костюм городской – и по происхождению материала, и по своему назначению. Сукно в XIII—XIV вв. – продукт ткацкого производства развитых городских центров Фландрии и Северной Италии. Одежда из него практичнее «летящих» аристократических платьев XII—XIII вв., рассчитанных на праздное пребывание в доме. Это деловая «рабочая лошадка», предназначенная для активной деятельности: торговли, участия в городской политике, дальних поездок. Воздушный полет краев одежды, когда-то заимствованный у изобильного и сонного Востока, постепенно выходит из обихода. Напротив, появляется весьма символичный обычай зашивать в полы тяжелые монеты для придания силуэту солидной неподвижности. В деловые поездки купец надевал плотно облегающую грудь шерстяную котту (cotte) с узкими рукавами. Поверх котты накидывалось сюрко – безрукавка с разрезами по бокам (а иногда, для большего удобства, – спереди и сзади), сшитая из дорогих тканей. Котта и сюрко доходили до середины икры, а под ними носили кожаные брэ и обтягивающие шоссы. К брэ крепились деловые аксессуары – ключ и кошель. Строгость силуэта отчасти компенсировалась многоцветностью костюма.
Дамские котта и сюрко были длинными, в пол, а вечерние открытые сюрко состоятельных горожанок и знатных дам напоминали моду XII в., с ее удлиненным силуэтом шлейфа и большими «летящими» вырезами под рукавами, порой с меховой оторочкой.
В XIII в. стали носить кружева, и первые сумптуарные законы нового Запада (законы против роскоши), о которых мы поговорим позже, стали появляться как раз в XIII в., вместе с первыми ростками «омассовления» когда-то абсолютно элитных товаров. Например, во французской Нарбоннен законодательно пытались бороться с обилием кружев: были запрещены кружевные одежды, через которые просвечивал шенс.
Рассматривая вопрос об истории торгового капитала более пристрастно, мы обнаруживаем, что до перемен XIII в. основная масса т.н. «купеческого класса» была лишь мелкими уличными торговцами, сходными скорее с менялами и ростовщиками, мало имеющими отношение к реальному капитализму. Что же касается меньшинства крупного купечества, того самого городского патрициата, «жирного народа», составившего в период Ренессанса городскую элиту, то природа их колоссальных доходов крылась, как ни странно, в том, что их операции по торговле совершались на обочине основной экономики, основу которой составляло земледелие, часто еще двупольное. Как метко пишет Ле Гофф, «по правде говоря, купцы являлись маргиналами». Основным предметом их сделок служили дорогие, малообъемные товары: роскошные ткани, шелка, пряности, драгоценные камни. И главный навык итальянских торговцев заключался в том, что с учетом всех трудностей и опасностей транспортировки они знали стабильные цены на восточные товары и заранее могли просчитать свою прибыль. Да и ганзейские купцы вплоть до XIV в. основной доход делали не на зерне и лесе, а на менее габаритных воске и мехах. Средневековая структура западных торговых компаний также говорит об их маргинальном характере: большая часть купеческих ассоциаций, кроме объединений семейного типа, характерных для итальянцев, создавались для одной-единственной сделки, делового путешествия на срок не более 3—5 лет. Не было в этих предприятиях ни долговременных инвестиций, ни непрерывности, а сверхприбыли, если таковые возникали вопреки всем рискам, купцы вкладывали в более престижное и стабильное земельное владение или городскую недвижимость с целью получения ренты, а то и растрачивали на «выкуп души» в посмертных дарениях.
Торговый капитализм, создающий эту самую «роскошь», в конце Средневековья выглядел примерно так: шерсть, промытая в Испании, отправлялась для дальнейшей обработки во Флоренцию, а затем вывозилась в виде дорогого сукна в египетскую Александрию, где менялась на восточные товары, которые затем продавались в той же Флоренции или других городах Европы. Представьте черепашью скорость транспорта в те времена и низкую производительность труда – и станет понятно, почему один такой цикл, т.е. операция, которая на выходе должна принести прибыль, занимала несколько лет. Помимо этого, такие операции нуждались в банковском или ростовщическом капитале. Католикам ростовщичеством было заниматься запрещено церковью. Посему текстильная промышленность поначалу, пока итальянцы не начнут активно заниматься банковской деятельностью, напрямую зависела от положения евреев, имевших право давать деньги в рост иноверцам. А как мы помним, положение это было более чем нестабильным. Учитывая все предпринимательские риски и необходимость замораживания капитала на столь долгий срок, становится очевидно, почему товары, которые кажутся нам сегодня привычными, стоили невероятно дорого и считались предметами роскоши.
Тем не менее массовое принятие сумптуарных законов к XIII—XIV вв. говорит нам, что роскошь, выросшая из новых для Запада текстильных технологий и торговли, стала существенным фактором общественной жизни, особенно итальянских городов и коммун. Содержание и природа этих законов может многое сказать нам о той самой исторической точке начала формирования западного социального института моды, который вырос как раз из роскоши, но представляет из себя нечто, принципиально отличное от нее по содержанию. Во многом можно сказать, что мода Запада стала со временем более цивилизованной, «интеллектуальной» формой разделения социальных классов, нежели прямая демонстрация роскоши и богатства, разрушающая основы общественной солидарности. Но это произойдет далеко не сразу. Аристократы позднего Средневековья, патрициат эпохи Возрождения в Италии, Римская курия, испанский, и еще более – французский дворы – использовали демонстративную роскошь, несмотря на все попытки ее ограничения, как средство символической власти в обществе.
Понятие роскоши
Общество обрело свой порыв не в производстве:
великим ускорителем была роскошь.
Марсель МоссИтак, роскошь как объект ограничения становится явной и очевидной для западного средневекового общества и, прежде всего, городской общины, в XIII—XIV вв. За исключением одного примера – Генуя, 1157 г. – все первые образцы сумптуарного права Средневековья датируются второй половиной XIII в. и Треченто до времени Черной смерти (эпидемии бубонной чумы в 1346—1353 гг.). Во-первых, это говорит о самом наличии роскоши как существенного фактора жизни городских общин. Во-вторых, это свидетельствует о восприятии ее на тот момент как определенно сомнительной или несправедливой с точки зрения морали.
В связи с этим следует обратить внимание на важнейшее глубинное отличие новой цивилизации Запада от восточной. Развитие цивитас (городской, гражданской общины) и цивильности в Средневековье связано, как уже отмечалось, со становлением права. Основной формой была запись норм в статуты. В этой процедуре реализовывалось не только закрепление имущественных и личных прав, но и процесс созидания символических прав и ценностей. Сама запись права уже является ценностью. Воззрения относительно роскоши, бытовавшие в различных обществах в разное время, – это одно, а вот наличие не просто моральных, а именно правовых норм, которые создавались в процессе формирования цивитас на территории Италии, – это принципиально иной подход общества к самосозиданию. Роскошь далеко не во всех обществах воспринималась как нечто предосудительное, иногда против роскоши выступали религиозные авторитеты и морализаторы, но на Западе, как античном, так и средневековом, мы видим облеченные в форму закона усилия, направленные против того, что, по мнению общества, подрывало основы его стабильности.
То есть законы против роскоши – это своеобразный маркер общин, основанных на принципе res publica186, отражение их внутреннего ограничения и самоограничения ради дальнейшего развития. В этом вопросе четко прослеживается тот факт, что если наследником знаний Римской империи выступала Византия, то правовой и политической наследницей стала цивилизация Запада. Несмотря на то, что Кодекс Феодосия содержал сумптуарные нормы, в Византии зрелого периода законы против роскоши отсутствуют.
Встает вопрос, а что это вообще такое – роскошь? С обыденной точки зрения, это явление, имеющее совершенно ясное социально-экономическое определение, связанное с резким ростом доходов узких слоев общества, не имевших до этого высокого достатка. В проторенессансных городах обладателями этого богатства, несправедливого, с точки зрения феодальной и в целом христианской морали, были купцы и новые банкиры.
С другой стороны, интересно сравнить понятие роскоши Средневековья и Древнего Рима. Законы, регулировавшие чрезмерные траты и демонстрацию роскоши, стали издаваться в Древнем Риме с конца III в. до н.э. в драматический момент его истории – войну с Карфагеном. Первоначально к тратам, которые связывались с понятием sumptus187, относили украшения и одежды, затем погребальные расходы, издержки на строительство богатого жилья, судебные расходы, пиры и отдельные виды пищи и благовония. В разгар Второй Пунической войны, после катастрофы в битве при Каннах, в 215 г. до н.э. был принят закон Оппия (Lex Oppia), запрещавший римским женщинам иметь украшения весом больше, чем пол-унции золота, а также носить одежды, окрашенные в пурпур (очень дорогой способ окрашивания). Уже в 195 г. до н.э. по настоятельным просьбам римских матрон Lex Oppia был упразднен, однако в 184 г. цензор Марк Порций Катон ввел установление о высоких налогах на ношение драгоценностей и богатого платья. Сходным образом средневековые статуты были нацелены на обуздание демонстрации роскоши женщинами. Но основная часть сумптуарных законов времен res publica после Второй Пунической войны была нацелена против расходов на пиры и праздники, которые стали привычкой у знати, «что вело к подмене истинно общественных интересов групповыми»188. Основные древнеримские законы против роскоши принимались по инициативе знати или более дальновидной элиты, понимающей опасности расшатывания устоев, на которых была построена римская civitas.
В период смены элит и политического кризиса в Риме в I в. н. э. Тацит вопрошает в «Анналах»:
«Что запретить или ограничить, возвращаясь к прежним обычаям? Огромные размеры загородных поместий? Число рабов и их принадлежность к множеству различных племен? Вес золотой и серебряной посуды? Чудеса, созданные в бронзе и картинах? Одинаковые одеяния мужчин и женщин?»189.
Чисто риторически этот пассаж античного автора и политика говорит о попытках моралистов вернуться к некоему «золотому веку», а во-вторых, о проблеме узкого или расширенного толкования роскоши и разнообразии объектов регламентации. Но в целом, если говорить о проблеме наследования древнеримского права средневековыми городскими статутами в области сумптуарных законов, следует согласиться с мнением британского историка Сьюзан Рейнольдс (1929—2021), которая пишет, что «роль традиции римского права чересчур преувеличивается, когда с ее помощью пытаются объяснить рационализм принципов построения городской жизни Средневековья»190.
Во-первых, никаких прямых заимствований из античных законов против роскоши средневековые законодатели просто не могли почерпнуть, ввиду отсутствия основного массива оригинальных древнеримских текстов и смены материальных и поведенческих объектов, которые выражали злоупотребление богатством и демонстрацию роскоши.
Во-вторых, приток роскоши в проторенессансную эпоху, т.е. в период активного институционального строительства в итальянских городах-общинах, был связан с торговлей, что и повлекло за собой создание первых правовых норм ограничительного характера. Они были обусловлены опасениями перед возможностями трат и демонстраций роскоши нового класса купцов и банкиров, не относящихся к старой элите. В связи с этим возникает вопрос: проблемой была сама роскошь или то, что ее носителями стал класс, не имевший отношения к старой феодальной элите? До какой степени следует включать в одну категорию сумптуарных законов борьбу со злоупотреблением роскошью в принципе и закрепление статусных характеристик и ограничений для определенных социальных групп? Ведь вряд ли стоит включать сюда требования отличий в одежде от определенных «меньшинств», как мы бы сейчас их назвали, например евреев, активно участвовавших в деловой жизни города.
Проблему статуса и sumptus задают статуты, в которых отражена борьба с роскошью с помощью антимагнатского законодательства: Сиена – 1250—1260 гг., Флоренция – 1292 г. Далее Флоренция принимает меры сумптуарного толка в 1330, 1356, 1388, 1433, 1462, 1464, 1471 гг., что отражает картину бурной общественной жизни города в ренессансную эпоху. Общее число законодательных ограничений роскоши активно растет вплоть до 1500 г., когда число сумптуариев, исходя из известным нам источников, составляет уже около 300, при том что в архивах итальянских коммун до сих пор существует множество единиц хранения неопубликованных документов.
Сумптуарии XIII—XIV вв., которые в той или иной форме принимают практически все городские коммуны Севера и Центра Италии, были направлены преимущественно на регламентацию костюма, его дорогостоящих деталей и элементов, в первую очередь, женских платьев и драгоценностей. Даже позже, в свободолюбивую эпоху Ренессанса, именно одежда и украшения женщин предстают в качестве основного объекта регламентации со стороны законодателей, что отражает ситуацию, когда женщины были ретранслятором статусных достижений рода, а не столько демонстрировали личные амбиции.

