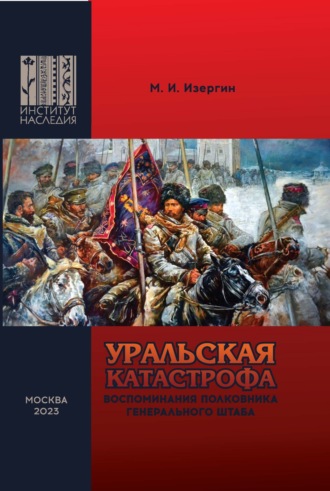
Уральская катастрофа. Воспоминания полковника Генерального штаба
Дальнейшее пребывание в Прорве теряло смысл.
Отъезд был назначен на 18 января.
Но целый ряд недоразумений, непредвиденных затруднений, неизбежных при сборах в дальний путь, вызвал необходимость перенести отъезд на 19-ое.
Итак, судьба гнала нас дальше, не давая никакой надежды на то, что, дойдя даже до форта, мы найдём там спасение.
Но иного выхода не было.
От Прорвы до Форта Александровского
19 января – 20 февраля 1920 года
19 января, в день Крещения Господня, наш отряд покинул Прорву – последний, как было уже сказано, обитаемый пункт на восточном побережье залива Култука. Погода немного облачная, немного туманная, но удивительно тихая. Ничто не нарушало спокойствия, в которое была погружена природа. В точно такую же погоду мы прибыли в Прорву 12-го января 19 года и покинули Гурьев 31 декабря того же года.
К 10 часам утра отряд в составе 62 человек – мужчин, женщин и детей, – двух десятков повозок, запряжённых частью лошадьми, частью верблюдами, и из 70 вьючных верблюдов, нагруженных продовольствием, палатками и кошарами, собрался у дороги восточнее Прорвы. Повозки предназначались для больных, для женщин и детей. «Бродячий цирк» Владеса и колымаги Попова и Пичугина входили в число повозок. Как эти сооружения дошли по прогибающемуся льду до Прорвы и даже без особых приключений – для меня неразрешимая задача. В составе отряда две повозки, в которых находились больные полковник Моторный с женой и дочерью.
Одновременно с ними покидали или готовились покинуть Прорву другие отряды. Здесь я не даю скучного перечня этим отрядам, но упоминаю о них с целью показать, что наш отряд был далеко не один, а один из очень многих, что до нас, с нами и после нас приходили в Прорву и уходили из неё десятки отрядов в подавляющем большинстве жалкого, безнадёжного и удручающего вида. В несколько лучшем, вернее сказать – в менее скверном, состоянии были «кочующие станицы» беженцев.
Исправляю маленькую погрешность: я упустил сказать, что в Прорве был нанят второй проводник – одаевский киргиз Джам Бай[41]. Все атрибуты, обличавшие в нём профессионального проводника, я хочу сказать, компас, термометр и даже барометр, хранились у него за пазухой.
В 11 часов утра отряд покинул Прорву.
Отряд полковника Сладкова уходил из Прорвы одновременно с нами.
19-го января 1920 года, по времени, и гиблая Прорва, по месту, определяют начало последующего короткого периода времени, в который уральское казачество было окончательно погребено в закаспийской степи и на плоскогорьях Усть-Урта.
События этого короткого, но исключительного по значению периода я изложу здесь в той форме, в какой они записаны в моём дневнике, то есть в форме кратких хронологических заметок, относящихся к данному прожитому дню или дням, в зависимости от физической возможности манипулировать карандашом, то есть, в зависимости от показания термометра, силы ветра, дождя, снега и так далее. Без моих комментариев и субъективных толкований. Я надеюсь, изложенные таким образом голые факты обрисуют с достаточной ясностью положение, в котором эти факты имели место.
Возвращаюсь к предмету моей повести.
3 января 1920 года. Бивуак Чушка Ака
Прошли четыре дня как отряд покинул Прорву и теперь, преодолев с большими трудностями расстояния в полсотни вёрст в юго-восточном от Прорвы направлении, бивуакирует в местности, которую Джам Бай называет Чушка-Ака. Пятьдесят вёрст за четыре дня вместо пятидесяти вёрст в день, на что мы наивно рассчитывали!..
В первый из этих четырёх дней мы прошли 7–8 вёрст.
Причиной такого ничтожного успеха движения отряда, помимо забитости дороги воинскими и беженскими обозами, были так называемые «соры» и «баткаки».
«Сорами» киргизы называют узкие неглубокие, далеко врезывающиеся в материк заливы. Теперь, при незначительности глубины, при твёрдости песчаного дна, даже при сомнительной прочности льда «соры» не представляли собою препятствий слишком трудно преодолимых. Но всё же, было бы лучше без них.
Много труднее и опаснее «сора» – «баткак». Последний есть не что иное как болото, больших или меньших размеров, с тинистым, вязким, засасывающим дном. Совершенно невозможно, не имея необходимых приспособлений, спасти человека, лошадь, верблюда, так или иначе попавших в «баткак».
Джам Бай уверяет, что дальше ни «сор», ни «баткак» не будут преграждать нам путь. В этом, конечно, большое утешение!..
В эти дни, начиная с Прорвы, мы видели сотни и сотни брошенных лошадей, бродивших по лишённый жизни, голой закаспийской степи в поисках корма и воды, которых они не находили и не могли найти. Ещё несколько дней – лошадь как средство транспорта исчезнет, и наше «быть или не быть» станет в исключительную зависимость от удивительного по выносливости и покорности животного – верблюда. В условиях, в которых мы находимся, гибель верблюда означает не более и не менее как гибель его хозяина.
Вся растительность закаспийских степей представлена двумя видами полутравянистых, полукустарниковых растений, именуемых «колючкой» и «полынью». Если наша судьба зависит от верблюда, то жизнь и энергия этого последнего зависит от этих грубых горьких растений, которые служат верблюду хорошим кормом. Для лошади как колючка, так и полынь совершенно неприемлемы.
С момента оставления нами Прорвы, то есть в продолжении четырёх дней, наши животные не имели ни одной капли воды. Люди отряда за это время утоляли жажду водой, получаемой путём нагревания морского льда на огне.
Сегодня, 23 января, на рассвете отряд покинул Чушка-Ака. Около 10 часов утра по указанию наших проводников отряд резко изменил направление своего движения к югу и, пройдя затем несколько вёрст по целине, вышел на большую караванную дорогу или, лучше сказать, верблюжью тропу, ближайшую к морю и параллельную общему направлению морского побережья.
К полудню отряд подошёл к колодцам Кизил-Джара.
Трудно описать, с какой жадностью наши животные пили воду, несмотря на её качество, позволяющее желать лучшего.
Ввиду крайнего утомления людей, а главным образом верблюдов и лошадей, решаем остановку у этих колодцев до утра следующего дня.
Благодаря предусмотрительности Н. Я. Мельбарта в отряде имеется небольшой запас дров. До сих пор, экономя дрова, мы пользовались повозками, бросаемыми проходящими обозами по мере того, как гибли лошади. Эти источники тепла, конечно, иссякнут быстро. Ближайшее будущее в отношении этого жизненно важного вопроса представляется мне в очертаниях мало утешительных.
Места для ночлега отряда выбираются в зависимости от наличия колючки или полыни и воды, если это возможно. В противном случае отряд останавливается на ночлег там, где его захватит ночь или полное истощение сил. После того как место для бивуака так или иначе выбрано, отряд располагается в следующем порядке: повозки ставятся ось к оси по прямой линии, перпендикулярной направлению ветра. Вдоль подветренной стороны этой линии располагают верблюдов, снятые с них вьюки и лошадей. Наконец, параллельно описанному расположению повозок, животных и грузов устанавливаются палатки и кошары – наши убежища от ветра и холода – следующим образом, считая справа налево: палатка англо-русского отделения отряда, две палатки дамского отделения, кошар казаков, кошар инженеров, две повозки, в которых размещалась семья полковника Моторного, две лазаретных повозки для тяжело больных и, наконец, знакомый нам «странствующий цирк» инженера Владеса и вагоны на колёсах Пичугиных и Поповых.
С наступлением темноты до рассвета охрана бивуака вверяется двум часовым, сменяемым каждые два часа.
Разведку пастбищ для верблюдов, колодцев и, в зависимости от этого, места для бивуаков принял на себя инженер Мельбарт. В распоряжении последнего переданы три казака-уральца, оба проводника – Мукаш и Джам Бай, – и пятнадцать киргиз – пастухов и вожатых. Наши проводники, между прочим, имели собственных верблюдов, каждый по одному.
Мы не можем жаловаться на погоду до сих пор, по крайней мере. В данный момент – шесть часов полудни – термометр (сантиград[42]) +2°, барометр – 750 [миллиметров ртутного столба]. Несколько облачно, мрачно, уныло, но тепло. Полное затишье. Последняя четверть луны, в которой мы находимся, всё же внушает мне опасения: обыкновенно резкие и внезапные перемены в состоянии погоды либо предшествуют новолунию, либо следуют за ним.
25 января 1920 года. Бивуак
Вчера в 8 часов утра мы покинули бивуак у колодцев Кизил-Джара.
Как и в предшествовавшие дни, неизменно перед нами расстилалась безграничная монотонная степь – пустыня без каких бы то ни было признаков жизни, если не принимать за таковые брошенных подыхающих с голоду лошадей. Преодолев по абсолютно гладкой горизонтальной поверхности 20–25 вёрст, к наступлению сумерек этого дня отряд в изнеможении остановился в некоторой, скажем, точке, положение которой не может быть определено никакими географическими или иными координатами.
Сегодня удручающая монотонность степного ландшафта была нарушена неожиданным появлением в поле нашего зрения двух значительной высоты отдельных возвышенностей, расположенных вправо и влево от направления следования отряда, образуя нечто вроде широких ворот. Особенно обращала на себя внимание оригинальность их геометрически почти правильной формы: формы конуса – правой и усеченного конуса – левой. Джам Бай называет их Ака и Кок-Тюбе. Эти две нелепые выпуклости земной поверхности, как два фантастических стражника, казалось, охраняли пустыню от… я не знаю, от какого воображаемого врага. Трудно сказать, какие космические силы могли создать такое сочетание поверхности, как стол с конусообразным на ней наростом.
Миновав Ака и Кок-Тюбе, мы скоро и ещё раз подошли к морскому берегу, где оказались колодцы с очень хорошей водой.
После часового отдыха отряд продолжил путь. Снова бесконечная, безжизненная пустыня – ни человека, ни зверя, ни птицы!
«Богом отвергнутая Земля», – сказал мне сегодня казак-уралец.
В три часа пополудни, сделав не больше десяти вёрст, отряд стал на ночлег.
Не сильный, но встречный и холодный ветер. Термометр плюс 4°, барометр 750 с тенденцией падать.
К. Я. Мельбарт заболел тифом.
26 января 1920 года. Бивуак Кизил-Джар
Как и вчера, определить сколько-нибудь точно местонахождение нашего бивуака, за отсутствием ориентировочных пунктов, невозможно. С большим приближением – мы находимся в 100–120 вёрстах к юго-востоку от Прорвы и в 10–12 – от кизил-джарских колодцев.
Сегодня, по мере нашего движения вперёд, проходимая нами местность стала медленно, но заметно терять свою горизонтальность, повышаясь в сторону движения отряда. Появился снег, и степной ландшафт, до сих пор грязно-серый, стал переходить в белый. Такая совершенно неожиданная трансформация вида степи, приятная для глаза, имела ещё ту хорошую сторону, что она разрешала вопрос для нас чрезвычайной важности – вопрос воды.
Топлива нет. Чтобы согреть воду для чая, жжём одну из повозок обоза.
За полным отсутствием сена большую часть наших лошадей мы оставили погибать в степи.
Голодают верблюды, но всё же кое-что удобоваримое для себя они находят. Выше я сказал и ещё раз повторяю, что гибель верблюда теперь означает гибель того или тех, кому он служит.
Несмотря на сравнительно небольшую температуру, 2–3° ниже нуля, переход, сделанный нами сегодня, был очень трудным по причине сильного встречного ветра. В лучшем случае мы преодолели 10–12 вёрст.
С выражением тревоги на лице Мукаш сообщил мне свои заключения, вытекающие из его наблюдений погоды, природы и даже небесных светил: «Не хорошо, барин, новая луна, буран будет». Я легко допускаю, что опасение Мукаша небезосновательны, так как наиболее резкие колебания температуры и атмосферного давления предшествуют новой луне или с ней совпадают. Об этом уже упоминалось. Прав ли Мукаш или нет, покажет будущее, а теперь ясно только то, что десятки тысяч людей находятся во власти стихий… Мы слишком слабы для борьбы с ними, слишком бессильны изменить что-либо в положении, в котором мы находимся.
Весь истёкший день был солнечным днём, но к вечеру в западной части неба появились тяжёлые тучи, позади которых скрылся красный диск солнца. Теперь на моих часах стрелки показывают девять вечера, на крышу моего убежища – палатки,
падает не то дождь, не то снег, а, может быть, и то, и другое зараз.
Прошла неделя с момента оставления нами Прорвы, неделя автоматического движения с утра до вечера, когда мы останавливаемся на ночлег, организуем бивуак, изыскиваем средство для того, чтобы согреть воду, накормить верблюдов; затем мы спим, спим мёртвым сном до рассвета и снова идём вперёд. За эту неделю борьбы с пространством мы преодолели расстояние немногим больше сотни вёрст, иначе говоря, мы сделали шестую часть пути от прорвы до Форта Александровского.
Совершенно очевидно, что 20-ти дневной запас продовольствия, взятый нами при отъезде из Прорвы, недостаточен и впредь мы должны его рассчитывать до предела его растяжимости.
27 января 1920 года. Бивуак Кизил-Джар 2
К утру погода изменилась в благоприятном для нас смысле: ветер стих, дождь прекратился, заметно потеплело.
Без задержек и недоразумений с 8-ми до 11-ти часов утра отряд, легко пройдя десяток вёрст, ещё раз подошёл к берегу моря, где ещё раз нашёл колодцы, которые ещё раз Джам Бай называет кизил-джар-скими: можно подумать, что отряд вернулся в исходное положение, которое он занимал два дня тому назад. Разобраться в киргизских названиях местности, лишённой ориентировочных пунктов, нет никакой возможности. Поэтому будем настоящие расположения отряда называть бивуак Кизил-Джар п. 2.
Иначе, неожиданно и неудачно, сложились обстоятельства второй половины этого дня.
В полдень, после короткого отдыха, отряд продолжал путь. В это же время со стороны моря стал надвигаться туман, который скоро перешёл в мелкий пронизывающий дождь, настойчивый, как зубная боль. Вследствие дождя глинистая поверхность дороги становилась скользкой и верблюды начали падать. Эти огромные, мощные животные совершенно неспособны передвигаться по какой бы то ни было скользкой поверхности. Нам ничего другого не оставалось, как остановиться, что, пройдя 2 версты, мы и сделали.
По-видимому, 10–12 вёрст поступательного движения – предел для нас возможного. Не трудно ответить на арифметический вопрос: сколько надо дней, чтобы пройти расстояние, равное 600 верстам, двигаясь со скоростью 12-ти вёрст в день? Ответ – 50!
Сейчас 8 часов вечера, мне сообщили о смерти жены полковника Моторного. Вечная ей память!
28 января 1920 года.
Бивуак 12 вёрст южнее Кизил-Джара п. 2
К полуночи с 27 но 28 дождь прекратился. Мрачное, туманное и холодное утро.
Около девяти часов утра маленькая и очень печальная процессия, состоявшая из двух повозок, влекомых верблюдами, священника и нескольких лиц, пожелавших проводить усопшую Моторную до вечного бивуака – могилы, вышла из расположения отряда и стала двигаться по направлению двух рядом стоящих небольших холмов в версте от лагеря.
В одной из повозок, передней, находилось тело умершей жены полковника Моторного, в другой – больные тифом полковник Моторный и его младшая дочь Ирина.
Два холма. На одном из них, что повыше, стоит надгробный камень с надписью, наполовину стёртой временем. Могила, давно покинутая и забытая. Предполагал ли тот, кто лежит под камнем, что придёт день, когда его одиночество будет нарушено?
После краткой молитвы, прочтённой священником, тело покойной было снято с повозки и приближено к повозке мужа и дочери. Из нескольких слов, с трудом произнесённых полковником Моторным, я уловил три: «Спи, моя милая!..» Рыдания не позволили ему сказать то, что он хотел сказать. В мою память врежется навсегда выражение лица покойной: оно было необыкновенно. Это лицо не отражало предсмертных страданий, ещё менее – ужаса перед смертью. Казалось, что это женщина закрывала глаза, чтобы не видеть печальной действительности, окружавшей нас. Обёрнутую в простыню, заменившую гроб, рабу Господню Наталию опустили на дно неглубокой могилы на кизил-джарском холме… Так была предана земле одна из наших спутниц, той земле, которая так или иначе, рано или поздно, откроется и закроется для каждого из нас…
В 10 часов утра отряд продолжал путь, являя своим жалким видом такую же похоронную процессию, какую мы видели час тому назад, но во многом раз увеличенную.
К двум часам пополудни отряд стал, казалось самопроизвольно, замедлять движение и наконец остановился окончательно, как останавливается машина, лишённая энергии, которая её до сих пор двигала. Мы, очевидно, переучли силу верблюда и не учли некоторых особенностей природы этого животного. Ночью верблюд видит плохо. В эту часть суток верблюд лежит и не ест. До сих пор мы не довали нашим верблюдам достаточно светлого времени, необходимого для наполнения их объёмистых утроб. Это ставит нас в необходимость отказаться от дневных переходов и перейти к ночным.
Успех сегодняшнего дня – всё те же 10 вёрст!
С заходом солнца пошёл дождь. Теперь девять часов вечера – обычное для меня время, которое я посвящаю моему дневнику. Дождь усиливается с возрастающей настойчивостью.
Полчаса тому назад прибыл верблюжий патруль связи от полковника Сладкова с сообщением, что его отряд и отряд атамана бивуакируют эту ночь в местности, называемой Куй-Куль, 10–12 вёрст впереди нас.
31 января 1920 года. Тот же бивуак
Положение принимает угрожающий оборот. Дождь, начавшийся вечером 28-го дня, когда Н. Моторная была похоронена на холме Кизил-Джара и когда наши голодные верблюды отказались идти вперёд, к полуночи перешёл в снежный шторм невероятной силы. К утру 29-го термометр упал до 16° ниже нуля!..
Случилось самое страшное из всего страшного, что только могло случиться. Три дня: 29, 30 и 31 января, свирепствовал снежный буран. В эти три дня неописуемого ужаса люди и животные отряда были буквально прикованы к земле, лишённые физической для них возможности передвижения в пределах нескольких шагов, не будучи в состоянии преодолеть сопротивление ветра. Весь лагерь был засыпан толщей снега в 1–1 1 ⁄2 аршина…
К утру 1-го февраля показание термометра – 22° ниже нуля. Что это означает, что скрыто в этом двузначном арифметическом символе, определяющем степень холода – судите сами…
3 февраля 1920 года. Бивуак Куй-Кюль
Буран, разразившийся в ночь на 29-е января, стал ослабевать к полудню 1-го февраля, когда верблюды после трёхдневной неподвижности начали подниматься без побудительного к тому на них воздействия извне. По мнению Мукаша, это было верным признаком близкого конца бешенства рассвирепевшей стихии. Ещё раз Мукаш был прав: к ночи на 2-е февраля ураган окончательно стих.
Исчезли облака. Звёздная ночь пришла на смену хмурому дню. Новая, первой фазы луна мутным мёртвым светом освещала замёрзшую землю и замёрзших на ней людей.
Потери русско-британского отряда – один офицер, сержант английский службы Биверг, два уральских и два оренбургских казака.
В отрядах, бивуакировавших по соседству с нами и захваченных, как и мы, бураном, потери исчисляются: броневой отряд – 2 офицера и 12 солдат; сербо-русский отряд – 14 офицеров и 72 солдата; 4-я уральская сотня – 2 офицера и 8 солдат… Всё это было покинуто на местах бивуаков, так как замёрзшая земля исключала возможность похоронить жертвы бурана. Это маленькая, абсурдная, но верная иллюстрация к тому огромному бедствию, свидетелем которого мне пришлось быть.
Я не чувствую себя в силах дать хотя бы приблизительную картину того, что творилось на пути из злополучного Кизил-Джара в Куй-Кюль. Мёртвые на дороге, мёртвые у дороги, мёртвые в некотором удалении от меня; отряды, пострадавшие частично; отряды, которые в целом их составе остались там, где буран преградил им путь… Почти все замёрзшие люди сохраняют одно и то же положение: они лежат на спине со сжатым кулаком правой руки около рта, наполненного снегом. Вероятно, последние чувства человека, умирающего от холода, есть чувство жажды.
Сверхъестественная выносливость верблюда поистине удивительна.
После трёх дней бурана, в которые наши верблюды абсолютно ничего не ели, с предельной нагрузкой, они оказались в состоянии пройти 20-вёрстный путь от Кизил-Джара до Куй-Кюля. К большому нашему благополучию в районе настоящего расположения отряда оказалась колючка в количестве, достаточном не только для того, чтобы накормить верблюдов, но и для того, чтобы вскипятить воду для чая и сварить кашу. Последнее составляет основание нашего питания.
Умерла младшая дочь полковника Моторного – Ирина. На протяжении двух месяцев В. И. Моторный растерял всю свою семью – жену и двух дочерей.
4 февраля 1920 года. Бивуак 2 версты к северу от Ак-Булака
Отряд покинул Куй-Кюль сегодня на рассвете. Трудно поверить: переход из Куй-Кюля в Ак-Булак выражается тридцатью вёрстами. Небывалый до сих пор успех!..
Этот переход – точное повторение уже сделанного накануне. В его описание я не имею внести ничего нового. Всё те же немые свидетели невероятной, совершенно абсурдной катастрофы, в которой, без большого преувеличения, на протяжении часов легли и не встали тысячи людей. Перед лицом этой катастрофы останавливаются мысль и понимание того, что происходит вокруг нас. Да, это выходит за пределы наших представлений о несчастьях и бедствиях, могущих постигнуть людей.
В нескольких вёрстах к югу от расположения нашего бивуака степь преображается крутым, обрывистым скатом плоскогорья Усть-Урта высотою 200–300 метров. Завтра нам предстоит форсировать подъём на это плоскогорье.
Верблюжий корм в изобилии. Впервые на пути, после колючки и полыни, встречаем третий вид растительности закаспийских степей, так называемый «саксаул». Это нечто среднее между низкорослым деревом и кустарником, характерной особенностью которого служат необыкновенной мощности корни, распространяющиеся почти горизонтально на небольшой глубине от поверхности земли. Какова бы ни была природа саксаула, для нас важно отметить здесь то, что это растение представляет собою идеальный вид топлива и такое же орудие борьбы с холодом.
Солнечный холодный день. Полное отсутствие ветра. Температура – минус 17°. Полная луна.
6 февраля 1920 года. Бивуак Волчий Вой
Отряд покинул бивуак севернее Ак-Булака около 4 часов пополудни и, пройдя две-три версты, вошёл в горную котловину, именуемую собственно Ак-Булаком. Наш путь, миновав ак-булакские колодцы, переходил в подъём, выводивший по узкому ущелью на Усть-Урт.
Разведка в составе полковника Пичугина, капитана Брокелбенка и проводника Мукаша, высланная для разведки проходимости пути, установила, что всякая возможность достигнуть плато, следуя дорогой, по которой мы шли до сих пор, должна быть исключена, так как ущелье блокировано снежным обвалом. Ничего иного не оставалось как идти дальше без дороги.
Оренбургский отряд полковника Чулошникова, прибывший к ак-булакским колодцам раньше нас и оказавшись в том положении, в котором теперь находились мы, с 2 часов пополудни преодолевал подъём на Усть-Урт значительно левее дороги. По времени нашего прихода к колодцам, это было после 5-ти, отряд Чулошникова успел преодолеть только половину злополучного подъёма, всё протяжение которого не превышало полуверсты.
В этих условиях решаем идти за отрядом Чулошникова.
Солнце скрылось за горизонтом и в то же время ему на смену полная луна вышла из того же горизонта, но с противоположной его стороны, и осветила своим саркастическим глупым ликом котловину Ак-Булака. Всё покрыто снегом, всё бело, за исключением отвесных скал, свободных от снега и казавшихся на фоне белизны особенно чёрными и мрачными. Это сочетание белого и чёрного цветов сообщало ландшафту колорит траура и мистики.
С шести часов вечера до двух часов ночи, то есть в продолжении 8 часов, стоит – 22° мороза, отряд, напрягая всё и последние силы людей и животных, взбирался на Усть-Юрт…
Я опускаю описание этого восхождения. Ограничиваюсь сказать, что полувёрстный восьмичасовой подъём отряда на Усть-Урт убедил меня в том, что перед лицом опасности силы и энергия у людей, сознающих опасность, а у животных, инстинктом её чувствующих, удваиваются.
С невероятным трудом даже «странствующий цирк» Владеса с закаспийской степи был поднят на плоскогорье Усть-Юрта!
В полном изнеможении отряд, выйдя на плато в том месте, которое Джам Бай называет Волчьим Воем, остановился, не будучи в состоянии двигаться дальше. Снова перед нами бесконечная, белая, гладкая, как скатерть, пустыня, теперь не степь, а плоскогорье. Ни колючки, ни полыни, ни саксаула. Ничего, кроме снега и лунного света.
8 февраля 1920 года. Косс-Булак

