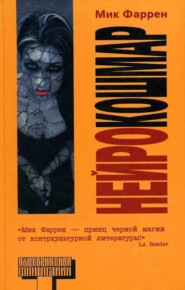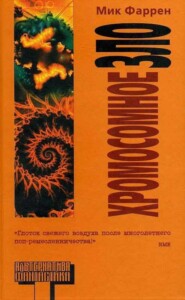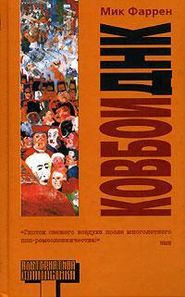По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джим Моррисон после смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Если честно, тут были и личные счёты. Я не знал, что там будет Никсон. А он что, правда продал душу Дьяволу, чтобы стать президентом?
– Ты даже не представляешь, сколько людей продают душу Дьяволу.
– А ты сам не пробовал?
Док закашлялся:
– Уж поверь мне, мой юный друг, если бы я заключил сделку с Дьяволом, я сейчас был не здесь. Или может быть, здесь, но мне бы было значительно лучше.
Джим, Док и Сэмпл спускались в лифте. Мужчины, кажется, были в восторге от недавнего приключения, но Сэмпл как-то не разделяла их радостного возбуждения.
– Ладно, ребята, вы разыграли неслабое представление, но что нам делать теперь? Есть какие-то соображения?
Док поглядел на Джима:
– Что там дальше по плану?
– По какому плану?! Это была чистая импровизация.
– Ты хочешь сказать, ты ничего не продумал? Как нам отсюда выбраться и всё такое?
Джим начал злиться:
– Слушай…
Сэмпл поспешила вмешаться, пока Джим и Док не схлестнулись в яростном мужском споре.
– Данбала Ля Фламбо сказала только, что мы должны тебя вытащить. Что эта игра – настоящее самоубийство и тебя надо спасать.
– Ля Фламбо? А она здесь при чём?!
Сэмпл вкратце пересказала Доку, как они с Джимом попали на остров вудушных богов и что там с ними было. Когда она закончила свой рассказ, Док покачал головой, глядя на Джима:
– Тебя ни на минуту нельзя оставить.
Джим все ещё злился:
– Знаешь что?! После того как тебя обработает Доктор Укол, если Ля Фламбо и Мария-Луиза велят тебе прыгнуть, ты только спросишь: а как высоко?
У Дока челюсть отвисла.
– Мария-Луиза в этом тоже участвует?
Джим кивнул. Док покачал головой:
– Ты хоть понимаешь, как глубоко завяз? И я вместе с тобой. – Он вздохнул. – Ты себе не представляешь, как долго я ждал, чтобы вновь сесть играть с Люцифером. И теперь я уже точно персона нон грата во всех казино в Аду.
Сэмпл никогда не понимала мужскую логику. Док недоволен, что его спасли?!
– Эта игра, которой ты так долго ждал, могла бы закончиться для тебя очень плохо. И ты это знаешь. Вот превратился бы в овощ безмозглый – и что тогда?
– Дело не в этом.
– А в чём тогда дело?
Но Док не успел объяснить, в чём дело, – лифт приехал на первый этаж, двери открылись. Пора выходить.
Монахини всё-таки подняли бунт. Эйми слышала их надрывный речитатив – где-то снаружи, за стенами монастыря. Голос Бернадетты выбивался из общего хора истошным воющим контрапунктом. Они выпевали какие-то слова, но Эйми их не понимала. Какая-то жуткая глоссолалия, хоровой бред – словно в них бесы вселились, во всех сразу. Эйми не строила никаких иллюзий. Она знала, что это значит: они нарочно заводят себя, заряжаются праведным гневом перед тем, как идти кончать с ней, с Эйми. Те сестры и ангелы, что ещё не примкнули к мятежникам – а таких, прямо скажем, осталось немного, – были сейчас рядом с ней, в Ризнице. Эйми стояла на коленях, отвернувшись от всех, и делала вид, что молится. Но она не молилась. На самом деле она беззвучно рыдала.
– Господи, Сэмпл… что я наделала?! Если б ты была здесь, ты бы знала, что делать. Но тебя нет. Ты сейчас в лимбе, и уже очень скоро за мной придут. Меня уведут на Голгофу. То, что я сделала… я не хотела, правда. Просто я разозлилась. Разве я виновата, что разозлилась – после всего, что мне пришлось пережить. Это было ужасно. Если б я знала, как все исправить, я бы исправила. Обязательно. Но я уже ничего не знаю. Теперь, когда я тебя уничтожила, я уже ничего не могу. Ничего.
Эйми молилась бы, если в этом был смысл. Если бы кто-то прислушался к её молитвам. Но она знала: её некому слушать. Бог оставил её – если он вообще есть, – а Иисус после недолгого, очень недолгого медового месяца оказался убийцей и извращенцем. Никогда раньше – ни при жизни, ни здесь, в Посмертии, – ей не было так плохо. Никогда раньше она не чувствовала себя такой беспомощной и одинокой. И вот теперь она тихо рыдала, стоя на коленях.
– Сестра Эйми? – Одна из монахинь робко приблизилась к ней.
Эйми сделала глубокий вдох и поднялась с колен:
– Что, голубушка?
– Бернадетта и все остальные, которые с ней… они сделают с нами что-то нехорошее?
Эйми ответила не сразу. Она хорошо понимала, что если мятежницам во главе с Бернадеттой удастся прорваться сюда, в монастырь, они почти наверняка распнут на Голгофе всех, кто здесь есть. Теперь Бернадетта называла себя «Молот Господень», а человек, принявший такое имя, вряд ли заинтересован решить все миром. Так что Эйми готовилась к самому худшему. Но надо ли ставить об этом в известность тех немногих монахинь, что ещё оставались с ней? Спорный вопрос. Эйми не хотела никого обманывать, но, с другой стороны, если они будут знать, что их положение безнадёжно, они скорее всего тоже её покинут. А Эйми ужасно боялась остаться одна. Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох:
– Наверное, надо готовиться к худшему. Они сейчас взбешены.
– Но ты же не виновата, что Иисус оказался маньяком.
– Похоже, у них своё мнение на этот счёт.
К ним подошла ещё одна монахиня:
– Достать бы оружие – может быть, мы бы их и сдержали. Показали бы им, что мы тоже круты и неслабы.
Эйми растерялась. Это было так странно – слышать призывы к оружию из уст монахинь.
– Но это же Небеса. Здесь нет оружия. Нам оно никогда не было нужно.
Третья монахиня подошла и сказала:
– Мы слышали, у Бернадетты оружие есть; она его наколдовала.
Эйми задумалась. Может быть, мысль об оружии в руках у монахинь была не такой уж и нелепой. Да, они приняли постриг, но до этого большинство из них – в частности, вот эти трое – вовсю торговали собой в каком-то борделе у Дока Холлидея и действительно были «круты и неслабы», типа сам чёрт им не брат. Может, они ещё не утратили прежнего боевого духа. Но вот в чём проблема: Эйми совсем не умела создавать оружие. На самом деле, после того как она уничтожила Сэмпл, у неё всё валилось из рук – не создала вообще ничего. Её Небеса распадались на части, а она ничего не могла сделать. В ткани реальности появились прорехи, вроде круглых дырок в швейцарском сыре, так что теперь Небеса напоминали картины сюрреалистов.
– Ты же можешь создать нам оружие? Что-нибудь не очень тяжёлое. Например, автоматы. Мы не хотим никого убивать, но их надо как следует припугнуть.
Эйми смотрела на своих монахинь с выражением безмерной, предельной печали:
– Я не знаю, получится у меня или нет. У меня нет опыта в таких делах. Я всегда была пацифисткой.