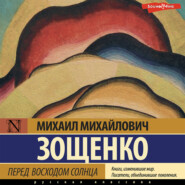По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юмористические рассказы
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пущай не поет. Наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает – тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!
Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.
Вдруг управляющий является, говорит:
– Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай!
Монтер говорит:
– Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, – говорит, – я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.
Дал он сию минуту свет.
– Начинайте, – говорит.
Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.
Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.
Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра – крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках.
Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться: дескать, я – тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымать на карточку мутно, не в фокусе!
1927
Прелести культуры
Я всегда симпатизировал центральным убеждениям.
Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.
Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.
И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться – сиди, в чем пришел. Это было достижение.
А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается – красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.
Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить – не помню.
Встречают и уговаривают:
– Горло, – говорят, – Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль – «Грелка».
И, одним словом, уговорили меня пойти в театр – провести культурно вечер.
Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.
– Польта, – говорят, – сымайте.
Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. «Прямо, – думаю, – срамота может произойти». Главное – рубаха нельзя сказать что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. «Срамота, – думаю, – с такой крупной пуговицей в фойе идти».
Я говорю своим:
– Прямо, – говорю, – товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.
Товарищ Локтев говорит:
– Ну, покажись.
Расстегнулся я. Показываюсь.
– Да, – говорит, – действительно, видик…
Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:
– Я, – говорит, – лучше домой пойду. Я, – говорит, – не могу, чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, – говорит, – еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, – говорит, – вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.
Я говорю:
– Я не знал, что я в театры иду, дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу, – что тогда?
Стали мы думать, что делать. Локтев, собака, говорит:
– Вот чего. Я, – говорит, – Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.
Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.
– Ой, – говорит, – мать честная, я, – говорит, – сам сегодня не при жилетке. Я, – говорит, – тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.
Дама говорит:
– Лучше, – говорит, – я, ей-богу, домой пойду. Мне, – говорит, – дома как-то спокойней. А то, – говорит, – один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук заместо пиджака. Пущай, – говорит, – Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.
Просим и умоляем, показываем союзные книжки – не пущают.
– Это, – говорят, – не девятнадцатый год – в пальто сидеть.
– Ну, – говорю, – ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.
Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти – ноги не идут к выходу.
Локтев, собака, говорит:
– Вот чего. Ты, – говорит, – подтяжки отстегни, – пущай их дама понесет заместо сумочки. А сам валяй, как есть: будто у тебя это летняя рубашка апаш и тебе, одним словом, в ней все время жарко.
Дама говорит:
– Я подтяжки не понесу, как хотите. Я, – говорит, – не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.
Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.
Вдруг управляющий является, говорит:
– Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай!
Монтер говорит:
– Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, – говорит, – я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.
Дал он сию минуту свет.
– Начинайте, – говорит.
Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.
Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.
Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра – крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках.
Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться: дескать, я – тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымать на карточку мутно, не в фокусе!
1927
Прелести культуры
Я всегда симпатизировал центральным убеждениям.
Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.
Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.
И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться – сиди, в чем пришел. Это было достижение.
А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается – красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.
Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить – не помню.
Встречают и уговаривают:
– Горло, – говорят, – Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль – «Грелка».
И, одним словом, уговорили меня пойти в театр – провести культурно вечер.
Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.
– Польта, – говорят, – сымайте.
Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. «Прямо, – думаю, – срамота может произойти». Главное – рубаха нельзя сказать что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. «Срамота, – думаю, – с такой крупной пуговицей в фойе идти».
Я говорю своим:
– Прямо, – говорю, – товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.
Товарищ Локтев говорит:
– Ну, покажись.
Расстегнулся я. Показываюсь.
– Да, – говорит, – действительно, видик…
Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:
– Я, – говорит, – лучше домой пойду. Я, – говорит, – не могу, чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, – говорит, – еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, – говорит, – вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.
Я говорю:
– Я не знал, что я в театры иду, дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу, – что тогда?
Стали мы думать, что делать. Локтев, собака, говорит:
– Вот чего. Я, – говорит, – Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.
Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.
– Ой, – говорит, – мать честная, я, – говорит, – сам сегодня не при жилетке. Я, – говорит, – тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.
Дама говорит:
– Лучше, – говорит, – я, ей-богу, домой пойду. Мне, – говорит, – дома как-то спокойней. А то, – говорит, – один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук заместо пиджака. Пущай, – говорит, – Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.
Просим и умоляем, показываем союзные книжки – не пущают.
– Это, – говорят, – не девятнадцатый год – в пальто сидеть.
– Ну, – говорю, – ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.
Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти – ноги не идут к выходу.
Локтев, собака, говорит:
– Вот чего. Ты, – говорит, – подтяжки отстегни, – пущай их дама понесет заместо сумочки. А сам валяй, как есть: будто у тебя это летняя рубашка апаш и тебе, одним словом, в ней все время жарко.
Дама говорит:
– Я подтяжки не понесу, как хотите. Я, – говорит, – не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.