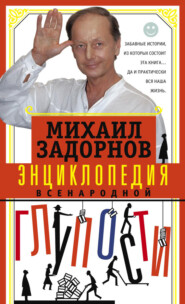По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Руны Вещего Олега
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В пылу спора он не заметил, как старший из охранников что-то шепнул второму и тихо удалился к двум раскинутым на склоне воинским палаткам. Иллару было не до того.
Не до того было и Грозе, которого слова философа о том, что потребно срубить Священный Дуб ради чужой веры, ударили в самое сердце крепче, чем дубина лихого татя на проезжей дороге. Срубить Древо Перуна, то самое, которое спасло жизнь ему, Грозе, и его сородичам, помогая обильными дождями, когда засыхает трава и нечем кормить животных, когда пересыхают ручьи и речушки. Сколько сотен лет сему древу? Старики рекли, что не менее тысячи. Сколько поколений пращуров поклонялись Защитнику, скольких он уберёг и вылечил, сколько силы и памяти он хранит под своим зелёным куполом в вечной сини небес? Его срубить? – Холод и невыносимый жар, ощущение гулкой пустоты и липкая тошнота, подкрадывающаяся к горлу, всё враз перемешалось внутри. Нет, нет! Ни за что и никогда он не позволит уничтожить Священное Древо!
* * *
Гроза, крадучись, дабы не потревожить сон домашних, выскользнул из жилища. Босые ноги привычно мерили тропинку в темноте. Рука в который раз скользнула к поясу. Нож, с которым всегда отправлялся в горы или когда выгонял отару на пастбище, был при нём. Он всё продумал и решил. От предутренней прохлады или от волнения, которое не покидало со вчерашнего вечера, тело била лёгкая дрожь. Чтобы согреться, старался идти быстрее. Вот он и на месте. Скоро начнёт светать, а потом придут люди… Придут, чтобы убить Его…
Юноша, смиряя биение сердца, подошёл к могучему исполину.
Он стоял на краю долины, крепко вцепившись в землю узловатыми корнями, бугрящимися у самого подножья и уползающими огромными змеями в плотное земное нутро. Почти у самой земли ствол богатырского древа чуть изгибался, будто когда-то, ещё в юности, был вынужден отклониться от некоего препятствия, наверное, ещё более могучего древа, от которого ныне не осталось и следа. Но зато теперь с этой стороны, где из-за отклонившегося ствола было больше света, росла вишня. Как так получилось, и почему великан не погубил столь немощное супротив него деревце, было неведомо. Вишня же, в свою очередь, не отстранялась, а как бы льнула к дубу, ища у него защиты, и потому никакой даже самый сильный ветер, вылетавший иногда из ущелья и лихо трепавший вершины перелеска в самом низу долины, не мог нанести урона тонконогой красавице.
На высоте в полтора человеческих роста ствол дуба разделялся вначале на две, а потом ещё на три отдельные могучие ветви, которые, разделяясь далее, образовывали огромный зелёный шатёр, под которым всегда была густая тень, и даже в самую жару путник мог обрести здесь отдых.
Осенью вся земля под дубом была усыпана крупными желудями, и кабаны приходили лакомиться ими целыми семьями.
С наступлением холодов серый ковёр опавшей дубовой листвы расцвечивался жёлтыми и красными листьями вишни.
Потом деревья ненадолго засыпали, поскольку зима в Таврике была короткой и не очень студёной.
Но особенно трогательным было сие зрелище весной, когда листва дуба ещё только распускалась и вишня, освещаемая солнечными лучами, зацветала своими белыми нежными цветками. Ну, чистые тебе Жених и Невеста! Красота и Защита. Любовь и Верность.
Гроза мечтал когда-нибудь привести под крону Священного Дуба ту самую, которую впервые полюбил более своей жизни, чудную, как вечерняя Заря и непостижимую, как загадочный небесный свод. Привести её и сказать, нет, не говорить, а поклясться, что он будет с ней навсегда, и на земле, и в небесном Ирии, как этот Священный Дуб и прильнувшая к его могучему стволу нежная Вишня! Где теперь любимая, об этом Гроза боялся даже думать. Но она сама и мечта о ней навечно остались здесь…
– Отче, – тихо, но твёрдо проговорил, обращаясь к Дубу, Гроза, и очи его полыхнули каким-то внутренним огнём, – я всё решил. Прежде чем грек поднимет топор, я ударю его своим ножом. Меня, конечно, после схватят и казнят, но Ты будешь жить… – Он замолчал, вспоминая, как вчера уже ночью, когда закончился, наконец, разговор грека-философа со всеми взрослыми жителями их селения, он подошёл к одному из старейшин, что приходился ему двоюродным дедом, и спросил, что решили. Старик, понурив голову, горестно рёк, что на рассвете все пойдут к Священному Дубу…
– Мы и так долго от их крещения ускользали, а нынче не выйдет, сам видишь, как теперь за нас взялись. Все старейшины рекли философу, что, мол, не надобно Древо уничтожать, дадим обет, что не станем ему жертвы приносить и молиться, только рубить не надо красоту божескую. А он упёрся, что твой осёл, всё писание святое нам пересказывает. В общем, уразумели мы, что ему край как надо свершить сие деяние, подобно тем апостолам, про которых он нам уже четыре дня без умолку толкует. Шибко сердиться начинает, хочет, чтоб было так, как он считает правильным. Одержимый, одним словом… Ну, как тут супротив пойдёшь?
Почему, почему старшие умные и опытные люди, те, кого он уважал, теперь покорно склоняют головы перед этим греком? – билась в голове горячая мысль и никак не находила ответа. Гроза обошёл древо вокруг раз и другой, прикидывая, с какой стороны удобнее будет встать греку, чтобы ударить топором. «Скорее всего, здесь, значит, мне стать вот тут, чтобы его охоронцы не успели перенять меня».
Юноша ещё некоторое время походил у древа. Резкий хриплый крик ворона нарушил тишину и словно отрезвил мысли. Гроза вдруг понял, что не сможет напасть на грека здесь, ведь это значит осквернить священное место убийством, а чем это лепше убийства Перунова Древа? Гроза торопливо вернулся к селению. Оглядевшись вокруг, он схоронился в кустах за валуном у самой тропы. «По ней непременно пройдёт грек со своей охороной, вот здесь тропа сворачивает, и они окажутся ко мне спиной».
Ждать пришлось не так долго. Едва рассвело, из селения потянулись люди. Гроза время от времени незаметно вглядывался в прохожих. Прошли греческие воины. «А вот и грек-философ, ага, охоронец у него один, второй командует воинами». Стараясь унять громко и часто забившееся сердце, Гроза замер, почти не дыша. Такие длинные мгновенья, и такие медленные шаги старейшины, идущего подле Иллара с охоронцем. Рука скользнула к поясу, примериваясь к рукояти ножа. От озноба не осталось и следа, жар, взметнувшись из солнечного сплетения, ударил в виски, перед очами замелькали не то жучки, не то какие-то пятна. Наконец, все трое прошли мимо и оказались к нему спиной. Гроза вскочил на негнущихся ногах, выхватил нож, но не успел сделать ни шагу. Тяжесть навалилась на него сзади, правая нога подломилась, а запястье сжала чья-то сильная рука. Оседая тут же в кустах, он хотел крикнуть, но другая грубая длань закрыла уста, и из них вырвалось лишь сдавленное мычание. Чуткий инок-охоронец быстро оглянулся, сжимая в руке невесть откуда взявшийся короткий меч, но, не заметив прямой опасности и приняв стихшее шуршание в кустах за полевую зверушку, снова поспешил за Илларом.
Как же так, как второй грек-охоронец смог оказаться сзади? – Гроза рванулся изо всех сил, но невидимый противник ещё крепче прижал его к земле. Поняв, что вырываться бесполезно, юноша обессилено затих и сквозь разом накатившую на него отвратную тошноту почуял, как ослабил захват тот, кто его удерживал. Гроза медленно обернулся к противнику и… вместо греческого черноризца узрел своего друга и наставника. Удивлённо захлопав очами, в которых ещё стояли слёзы отчаяния, он только смог с трудом выдавить:
– Вергун, ты… что это… отчего?..
– Оттого, брат Гроза, что убив этого грека, ты всё селение наше погубишь, мать свою, и отца, и братьев, и сестёр, и Радимку, всех, разумеешь? – устало молвил Вергун.
– Тогда прощай, брат, – с дрожью в голосе молвил юноша, поднимаясь и вставляя нож в ножны. – Один раз ты меня за руку схватил, второй раз могу не сдержаться, уходить мне надо.
– Куда ты пойдёшь?
– Не ведаю пока, но благодаря науке твоей и Хорсовита не пропаду. Сам знаешь, и в лесу, и в горах найду кров и пропитание зимой и летом, да и пастух из меня вроде неплохой. Моим скажи, чтоб не волновались, не пропаду. Брата и Звениславу я найти должен. Тут каждый камень и дерево о них напоминает… а теперь Дуб… тяжко мне, не могу больше, пойду я, брат Вергун. Прощай!
Гроза выпрямился и, не оборачиваясь, скорым шагом стал удаляться от родного селения.
* * *
А в это время у Перунова Дуба уже собрались почти все жители. Хмуро внимали он речистому иллирийцу, изредка бросая косые взгляды на греческих воинов, выстроившихся поодаль от Священного Древа во главе со своим друнгарием. Молчали суровые воины, молчали, опустив долу очи, русы. Напряжением звенел воздух у сказочного древа, и только философ всё говорил и говорил, и то, что никто уже не спорит с ним и не задаёт своих бестолковых вопросов, всё более вдохновляло его. Чем больше он говорил, тем более вдохновлялся своими речами, ощущая себя подобным уже не только апостолам, но и… может быть, Самому… Капли пота на бледном челе сливались в ручейки и стекали по бескровным ланитам, мешаясь со слезами не то вожделенной радости, не то молитвенного экстаза.
– И разверзнете души ваши, очистившись от скверны языческой, – речитативом продолжал Иллар, – приступив к свету великому, свету истинной веры Христовой, да снизойдёт на вас благодать Господня, и да пребудете вы с ней ныне, и во всяк час, ибо Христос, Сын Божий, искупил все грехи ваши…
Греческие воины всё больше подпадали под влияние вдохновенных речей пастыря, даже те, кто не понимал славянской речи.
Воодушевлённый молчанием русов, Иллар принялся ходить по их рядам, понуро выстроившимся вокруг Священного древа, осенять крестным знамением и брызгать водой из специальной серебряной ендовы, которую нёс помощник. Русы покорно терпели чудачества греческого проповедника, надеясь, что может быть этими непонятными действами всё и закончится и их, наконец, оставят в покое. Но зря они так думали.
– Так порушим же, дети мои, возлюбленные богом нашим Иисусом Христом, – вскричал проповедник, принимая из рук старшего телохранителя приготовленный заранее топор, – сие древо и сии камни, как символ языческой скверны, которое по невежеству называли вы ранее богом своим и которому посвящали молитвы свои!
В наступившей полной тишине, когда даже птицы, населявшие огромную крону древа, замолкли в ожидании беды, шагнул к могучему стволу бледноликий священник и ударил по живому раз, другой, третий. Крепкое древо, как добре натянутая струна, отозвалось едва заметной дрожью на каждый удар топора, которая разбежалась тревогой по корням и ветвям и погасла частью в сырой земле, а частью в небесном своде, где лопотала бесчисленная листва. Как и чем ответят на сию дрожь земля и небо?
– «Бум-бум-бум» – негромким набатом звучали удары. Тридцать три раза, по числу лет своего кумира Христа, поднимал дрожащей рукою тяжёлый для него топор философ Иллар и опускал в морщинистую кору Священного древа. Острое железо повредило тёмную бугристую кожу, под которой показалась светлая и влажная плоть. Обессиленный философ хотел передать топор кому-нибудь из просветлившихся тавро-скифов, но никто из них не принял орудие. Наступило неловкое молчание. Один из охоронцев Иллара сделал знак друнгарию, и воины, подходя по одному, принялись наносить сильные рубящие удары в основание могучего ствола, посылая мерные сигналы смерти.
– Беда, великая беда станется, – прошептал одними побелевшими губами дед Щука и обессилено опустился на землю, ощущая от неё каждый новый удар топора. Потом воины подходили уже не по одному. Забрав у русов топоры, которые они так и не решились пустить в дело, греки кромсали неподатливое древо с разных сторон, попирая ногами, обутыми в воинские сандалии, груды дубовой коры и щепы.
Первой пала вишня. Уже полностью был перерублен её ствол, но крепкие объятия ветвей могучего дуба не давали упасть любимой, они до последнего были верны друг другу и принимали смерть вместе, не разделяя переплетённых ветвей. Даже мужи и старейшины, глядя на гибель деревьев, плакали, не говоря о жёнах и вторящих им младенцах. Только люди из иного мира, видящие в деревьях лишь дрова для растопки или будущие стропила для поддержания тяжёлой черепицы на богатых греческих домах, всё более распалялись из-за неподатливой твёрдости великана и его упорного нежелания пасть к ногам победителей.
Второй десяток воинов занялся уничтожением каменного святилища Хорса, бывшего одновременно солнечным календарём, с неведомо каких времён указующим наступление летнего солнцестояния. Единственное, что смогли сделать воины, это расшатать и повергнуть менгир – перст Бога.
Не удалось за день грекам и срубить дерево. Раззадоренный друнгарий повелел воинам не останавливаться и продолжать рубить ночью, при свете факелов. Никто из людей не расходился, все словно были парализованы неслыханным святотатством и невозможностью повлиять на сие неотвратимое злодеяние.
Когда утром взошло солнце, Дуб ещё стоял, встречая новый и последний за свою тысячелетнюю жизнь светлый день. Только привычного щебета и пересвиста птиц не было слышно ни в зелёной кроне великана, ни на деревьях вокруг. Животные и птицы, внемля стону низвергаемого исполина и боли, заполоняющей все близлежащие пространства, покинули место смерти. Вот искромсанный ствол истончился до своего предела, внутри что-то громко хрустнуло, дуб вздрогнул и медленно покачнулся. Люди бросились врассыпную. Гулко, с хрустом рвущихся членов, рухнул наземь Священный Дуб, прикрыв собой тонконогую вишню. Казалось, вся долина вздрогнула, и твердь земная поколебалась от этого могучего удара. И все вдруг разом узрели над собой не голубое небо, каким оно было с утра, а тёмные клубящиеся тучи, будто стекавшиеся со всех сторон в лишившуюся защиты долину.
Греки боязливо закрестились, пугаясь надвигающейся грозы, и по команде друнгария поспешили покинуть место недолгой своей дислокации. А небо уже роняло первые крупные слёзы на их железные шеломы, кольчуги и лорики. Раскаты небесного гнева всё приближались, заставляя воинов снимать свои шлемы с гребнями, которые прежде всего может поразить молния. И только философ Иллар, опьянённый победой над Дубом, взобравшись на ствол и подняв руки горе, восторженно восклицал, что гроза – это божий знак ниспровержения языческого Перуна и воцарения на этой земле власти Иисуса Христа!
В тот же день Иллар с отрядом покинул селение. Ему предстояла ещё более трудная задача: поездка в Итиль и философский спор о вере с иудейскими раввинами и сарацинскими муллами.
Лета 869, Итиль
Когда греческий философ и мусульманский кадий удалились, в помещении дворца остались несколько бородатых раввинов, одетых, несмотря на жару, в перепоясанные халаты и шапки.
– Рабби, как тебе удалось так быстро убедить христианина и магометанина признать преимущество иудейской веры? – с удивлением и восхищением спросил один из них, обращаясь к старшему. – Ведь ещё вчера каждый горячо отстаивал только свою точку зрения…
Иудейский первосвященник, прибывший в Итиль специально для словесного поединка с христианскими и мусульманскими философами, загадочно улыбнулся.
– Всё очень просто, братья. Я посоветовал мудрейшему Кагану нашему поговорить наедине с греческим философом и задать ему такой вопрос: твоя вера хороша, но если бы мне пришлось выбирать между исламом и иудаизмом, что бы он выбрал, какая вера, на его взгляд, лучше? Греческий философ ответил, что выбрал бы иудаизм, потому что у исмаильтян нет ни субботы, ни праздников, ни заповедей, ни законов; они едят всякую мерзость, – мясо верблюдов и лошадей, мясо собак и всяких пресмыкающихся. Тогда я посоветовал Кагану поговорить наедине с аль кади, представлявшего ислам, и попросить его сказать по правде, если взять веру христиан и иудейскую веру, то которая из них ему кажется лучшей? Аль кади отвечал Кагану: «Иудейская вера – это истинная вера, а вера христиан не настоящая, они едят свиней и всякую нечисть и поклоняются творениям рук своих».
А сегодня премудрый Каган наш Захария – да сохранит его Творец – задал им прилюдно этот же вопрос. И они вынуждены были повторить свой ответ. И тогда Каган сказал: «Если так, то вы собственными устами вашими признали, что вера Израиля наиболее почтенна, и потому я уже выбрал её, как веру Авраама, по милосердию Божию, силой Всевышнего. Если Господь будет мне помощником, то имущество, серебро и золото, о котором вы сказали мне, мой Бог, на которого я уповаю, и к защите и покровительству которого прибегаю, доставит мне без хлопот. А вы идите с миром в вашу страну».
– Воистину велик твой разум, рабби. Особенно радостно видеть поражение посланника Эдома, философа Константина.
– Хороший слуга нашего дела, умный и, главное, убеждённый, – проговорил иудейский первосвященник.
– Рабби, прости, но это же христианин, именно христианский Константинополь, чтобы ослабить Хазарию, науськивает на нас иные народы! Он только что так горячо спорил с нами, пытался поколебать нашу веру, он наш противник, опасный противник, владеющий нашим языком и знающий наши Писания, – Тору, Танах и Талмуд. Доверенные люди утверждают, что это лучший из учеников патриарха Фотия, самого умного, просвещённого, а потому наиболее опасного для нас из всех патриархов Константинополя! – с недоумением и даже некоторой долей возмущения произнёс один из раввинов.
– Нет, Иоахим, это он так думает, и ты, я вижу, тоже, на самом деле всё совсем не так. – Первосвященник привычным движением медленно огладил редкую седую бороду и произнёс так же неспешно и негромко, но внушительно, понимая, что каждое его слово жадно ловят ведущие раввины Хазарии. – Этот замечательный молодой человек, как и его патриарх, они, в самом деле, полагают, что проводят в жизнь новую веру, истово служат ей и борются за неё, они продвигают её по миру, искренне считая своей. – Раввины внимательно слушали, стараясь уловить, к чему ведёт их мудрый старший собрат. – Пусть христиане строят свои храмы и славят своего Иешуа, но это только один из ликов Творца. Первый же лик его – древний и неизменный – Существующий, имени которого мы не произносим всуе. Иешуа еретик, но он иудей, он обрезан, как и все мы, и христиане празднуют и день его обрезания, и Пейсах, и остальные наши праздники, пусть и называя их по-своему. Славят в своих церквях и роды наши, и наших святых, и царей, и народ иудейский. А потому увеличивают нашу силу. Но это ещё не всё. Все эти гои, живя по законам, прописанным в наших святых книгах, и назвав их по-своему Библией, не знают, что там только часть нашего учения, усечённая для них, а поэтому чем больше они будут утверждать усечённые законы, тем более они будут раздираемы противоречиями, смутой и враждой. – Первосвященник на некоторое время перестал говорить, чтобы успокоить своё старческое дыхание.
– Рабби прав! – Потрясённо проговорил тот, которого назвали Иоахимом. – Уже сейчас Западный и Восточный Рим враждуют между собой, а что будет, когда они расширятся ещё более?!
Не до того было и Грозе, которого слова философа о том, что потребно срубить Священный Дуб ради чужой веры, ударили в самое сердце крепче, чем дубина лихого татя на проезжей дороге. Срубить Древо Перуна, то самое, которое спасло жизнь ему, Грозе, и его сородичам, помогая обильными дождями, когда засыхает трава и нечем кормить животных, когда пересыхают ручьи и речушки. Сколько сотен лет сему древу? Старики рекли, что не менее тысячи. Сколько поколений пращуров поклонялись Защитнику, скольких он уберёг и вылечил, сколько силы и памяти он хранит под своим зелёным куполом в вечной сини небес? Его срубить? – Холод и невыносимый жар, ощущение гулкой пустоты и липкая тошнота, подкрадывающаяся к горлу, всё враз перемешалось внутри. Нет, нет! Ни за что и никогда он не позволит уничтожить Священное Древо!
* * *
Гроза, крадучись, дабы не потревожить сон домашних, выскользнул из жилища. Босые ноги привычно мерили тропинку в темноте. Рука в который раз скользнула к поясу. Нож, с которым всегда отправлялся в горы или когда выгонял отару на пастбище, был при нём. Он всё продумал и решил. От предутренней прохлады или от волнения, которое не покидало со вчерашнего вечера, тело била лёгкая дрожь. Чтобы согреться, старался идти быстрее. Вот он и на месте. Скоро начнёт светать, а потом придут люди… Придут, чтобы убить Его…
Юноша, смиряя биение сердца, подошёл к могучему исполину.
Он стоял на краю долины, крепко вцепившись в землю узловатыми корнями, бугрящимися у самого подножья и уползающими огромными змеями в плотное земное нутро. Почти у самой земли ствол богатырского древа чуть изгибался, будто когда-то, ещё в юности, был вынужден отклониться от некоего препятствия, наверное, ещё более могучего древа, от которого ныне не осталось и следа. Но зато теперь с этой стороны, где из-за отклонившегося ствола было больше света, росла вишня. Как так получилось, и почему великан не погубил столь немощное супротив него деревце, было неведомо. Вишня же, в свою очередь, не отстранялась, а как бы льнула к дубу, ища у него защиты, и потому никакой даже самый сильный ветер, вылетавший иногда из ущелья и лихо трепавший вершины перелеска в самом низу долины, не мог нанести урона тонконогой красавице.
На высоте в полтора человеческих роста ствол дуба разделялся вначале на две, а потом ещё на три отдельные могучие ветви, которые, разделяясь далее, образовывали огромный зелёный шатёр, под которым всегда была густая тень, и даже в самую жару путник мог обрести здесь отдых.
Осенью вся земля под дубом была усыпана крупными желудями, и кабаны приходили лакомиться ими целыми семьями.
С наступлением холодов серый ковёр опавшей дубовой листвы расцвечивался жёлтыми и красными листьями вишни.
Потом деревья ненадолго засыпали, поскольку зима в Таврике была короткой и не очень студёной.
Но особенно трогательным было сие зрелище весной, когда листва дуба ещё только распускалась и вишня, освещаемая солнечными лучами, зацветала своими белыми нежными цветками. Ну, чистые тебе Жених и Невеста! Красота и Защита. Любовь и Верность.
Гроза мечтал когда-нибудь привести под крону Священного Дуба ту самую, которую впервые полюбил более своей жизни, чудную, как вечерняя Заря и непостижимую, как загадочный небесный свод. Привести её и сказать, нет, не говорить, а поклясться, что он будет с ней навсегда, и на земле, и в небесном Ирии, как этот Священный Дуб и прильнувшая к его могучему стволу нежная Вишня! Где теперь любимая, об этом Гроза боялся даже думать. Но она сама и мечта о ней навечно остались здесь…
– Отче, – тихо, но твёрдо проговорил, обращаясь к Дубу, Гроза, и очи его полыхнули каким-то внутренним огнём, – я всё решил. Прежде чем грек поднимет топор, я ударю его своим ножом. Меня, конечно, после схватят и казнят, но Ты будешь жить… – Он замолчал, вспоминая, как вчера уже ночью, когда закончился, наконец, разговор грека-философа со всеми взрослыми жителями их селения, он подошёл к одному из старейшин, что приходился ему двоюродным дедом, и спросил, что решили. Старик, понурив голову, горестно рёк, что на рассвете все пойдут к Священному Дубу…
– Мы и так долго от их крещения ускользали, а нынче не выйдет, сам видишь, как теперь за нас взялись. Все старейшины рекли философу, что, мол, не надобно Древо уничтожать, дадим обет, что не станем ему жертвы приносить и молиться, только рубить не надо красоту божескую. А он упёрся, что твой осёл, всё писание святое нам пересказывает. В общем, уразумели мы, что ему край как надо свершить сие деяние, подобно тем апостолам, про которых он нам уже четыре дня без умолку толкует. Шибко сердиться начинает, хочет, чтоб было так, как он считает правильным. Одержимый, одним словом… Ну, как тут супротив пойдёшь?
Почему, почему старшие умные и опытные люди, те, кого он уважал, теперь покорно склоняют головы перед этим греком? – билась в голове горячая мысль и никак не находила ответа. Гроза обошёл древо вокруг раз и другой, прикидывая, с какой стороны удобнее будет встать греку, чтобы ударить топором. «Скорее всего, здесь, значит, мне стать вот тут, чтобы его охоронцы не успели перенять меня».
Юноша ещё некоторое время походил у древа. Резкий хриплый крик ворона нарушил тишину и словно отрезвил мысли. Гроза вдруг понял, что не сможет напасть на грека здесь, ведь это значит осквернить священное место убийством, а чем это лепше убийства Перунова Древа? Гроза торопливо вернулся к селению. Оглядевшись вокруг, он схоронился в кустах за валуном у самой тропы. «По ней непременно пройдёт грек со своей охороной, вот здесь тропа сворачивает, и они окажутся ко мне спиной».
Ждать пришлось не так долго. Едва рассвело, из селения потянулись люди. Гроза время от времени незаметно вглядывался в прохожих. Прошли греческие воины. «А вот и грек-философ, ага, охоронец у него один, второй командует воинами». Стараясь унять громко и часто забившееся сердце, Гроза замер, почти не дыша. Такие длинные мгновенья, и такие медленные шаги старейшины, идущего подле Иллара с охоронцем. Рука скользнула к поясу, примериваясь к рукояти ножа. От озноба не осталось и следа, жар, взметнувшись из солнечного сплетения, ударил в виски, перед очами замелькали не то жучки, не то какие-то пятна. Наконец, все трое прошли мимо и оказались к нему спиной. Гроза вскочил на негнущихся ногах, выхватил нож, но не успел сделать ни шагу. Тяжесть навалилась на него сзади, правая нога подломилась, а запястье сжала чья-то сильная рука. Оседая тут же в кустах, он хотел крикнуть, но другая грубая длань закрыла уста, и из них вырвалось лишь сдавленное мычание. Чуткий инок-охоронец быстро оглянулся, сжимая в руке невесть откуда взявшийся короткий меч, но, не заметив прямой опасности и приняв стихшее шуршание в кустах за полевую зверушку, снова поспешил за Илларом.
Как же так, как второй грек-охоронец смог оказаться сзади? – Гроза рванулся изо всех сил, но невидимый противник ещё крепче прижал его к земле. Поняв, что вырываться бесполезно, юноша обессилено затих и сквозь разом накатившую на него отвратную тошноту почуял, как ослабил захват тот, кто его удерживал. Гроза медленно обернулся к противнику и… вместо греческого черноризца узрел своего друга и наставника. Удивлённо захлопав очами, в которых ещё стояли слёзы отчаяния, он только смог с трудом выдавить:
– Вергун, ты… что это… отчего?..
– Оттого, брат Гроза, что убив этого грека, ты всё селение наше погубишь, мать свою, и отца, и братьев, и сестёр, и Радимку, всех, разумеешь? – устало молвил Вергун.
– Тогда прощай, брат, – с дрожью в голосе молвил юноша, поднимаясь и вставляя нож в ножны. – Один раз ты меня за руку схватил, второй раз могу не сдержаться, уходить мне надо.
– Куда ты пойдёшь?
– Не ведаю пока, но благодаря науке твоей и Хорсовита не пропаду. Сам знаешь, и в лесу, и в горах найду кров и пропитание зимой и летом, да и пастух из меня вроде неплохой. Моим скажи, чтоб не волновались, не пропаду. Брата и Звениславу я найти должен. Тут каждый камень и дерево о них напоминает… а теперь Дуб… тяжко мне, не могу больше, пойду я, брат Вергун. Прощай!
Гроза выпрямился и, не оборачиваясь, скорым шагом стал удаляться от родного селения.
* * *
А в это время у Перунова Дуба уже собрались почти все жители. Хмуро внимали он речистому иллирийцу, изредка бросая косые взгляды на греческих воинов, выстроившихся поодаль от Священного Древа во главе со своим друнгарием. Молчали суровые воины, молчали, опустив долу очи, русы. Напряжением звенел воздух у сказочного древа, и только философ всё говорил и говорил, и то, что никто уже не спорит с ним и не задаёт своих бестолковых вопросов, всё более вдохновляло его. Чем больше он говорил, тем более вдохновлялся своими речами, ощущая себя подобным уже не только апостолам, но и… может быть, Самому… Капли пота на бледном челе сливались в ручейки и стекали по бескровным ланитам, мешаясь со слезами не то вожделенной радости, не то молитвенного экстаза.
– И разверзнете души ваши, очистившись от скверны языческой, – речитативом продолжал Иллар, – приступив к свету великому, свету истинной веры Христовой, да снизойдёт на вас благодать Господня, и да пребудете вы с ней ныне, и во всяк час, ибо Христос, Сын Божий, искупил все грехи ваши…
Греческие воины всё больше подпадали под влияние вдохновенных речей пастыря, даже те, кто не понимал славянской речи.
Воодушевлённый молчанием русов, Иллар принялся ходить по их рядам, понуро выстроившимся вокруг Священного древа, осенять крестным знамением и брызгать водой из специальной серебряной ендовы, которую нёс помощник. Русы покорно терпели чудачества греческого проповедника, надеясь, что может быть этими непонятными действами всё и закончится и их, наконец, оставят в покое. Но зря они так думали.
– Так порушим же, дети мои, возлюбленные богом нашим Иисусом Христом, – вскричал проповедник, принимая из рук старшего телохранителя приготовленный заранее топор, – сие древо и сии камни, как символ языческой скверны, которое по невежеству называли вы ранее богом своим и которому посвящали молитвы свои!
В наступившей полной тишине, когда даже птицы, населявшие огромную крону древа, замолкли в ожидании беды, шагнул к могучему стволу бледноликий священник и ударил по живому раз, другой, третий. Крепкое древо, как добре натянутая струна, отозвалось едва заметной дрожью на каждый удар топора, которая разбежалась тревогой по корням и ветвям и погасла частью в сырой земле, а частью в небесном своде, где лопотала бесчисленная листва. Как и чем ответят на сию дрожь земля и небо?
– «Бум-бум-бум» – негромким набатом звучали удары. Тридцать три раза, по числу лет своего кумира Христа, поднимал дрожащей рукою тяжёлый для него топор философ Иллар и опускал в морщинистую кору Священного древа. Острое железо повредило тёмную бугристую кожу, под которой показалась светлая и влажная плоть. Обессиленный философ хотел передать топор кому-нибудь из просветлившихся тавро-скифов, но никто из них не принял орудие. Наступило неловкое молчание. Один из охоронцев Иллара сделал знак друнгарию, и воины, подходя по одному, принялись наносить сильные рубящие удары в основание могучего ствола, посылая мерные сигналы смерти.
– Беда, великая беда станется, – прошептал одними побелевшими губами дед Щука и обессилено опустился на землю, ощущая от неё каждый новый удар топора. Потом воины подходили уже не по одному. Забрав у русов топоры, которые они так и не решились пустить в дело, греки кромсали неподатливое древо с разных сторон, попирая ногами, обутыми в воинские сандалии, груды дубовой коры и щепы.
Первой пала вишня. Уже полностью был перерублен её ствол, но крепкие объятия ветвей могучего дуба не давали упасть любимой, они до последнего были верны друг другу и принимали смерть вместе, не разделяя переплетённых ветвей. Даже мужи и старейшины, глядя на гибель деревьев, плакали, не говоря о жёнах и вторящих им младенцах. Только люди из иного мира, видящие в деревьях лишь дрова для растопки или будущие стропила для поддержания тяжёлой черепицы на богатых греческих домах, всё более распалялись из-за неподатливой твёрдости великана и его упорного нежелания пасть к ногам победителей.
Второй десяток воинов занялся уничтожением каменного святилища Хорса, бывшего одновременно солнечным календарём, с неведомо каких времён указующим наступление летнего солнцестояния. Единственное, что смогли сделать воины, это расшатать и повергнуть менгир – перст Бога.
Не удалось за день грекам и срубить дерево. Раззадоренный друнгарий повелел воинам не останавливаться и продолжать рубить ночью, при свете факелов. Никто из людей не расходился, все словно были парализованы неслыханным святотатством и невозможностью повлиять на сие неотвратимое злодеяние.
Когда утром взошло солнце, Дуб ещё стоял, встречая новый и последний за свою тысячелетнюю жизнь светлый день. Только привычного щебета и пересвиста птиц не было слышно ни в зелёной кроне великана, ни на деревьях вокруг. Животные и птицы, внемля стону низвергаемого исполина и боли, заполоняющей все близлежащие пространства, покинули место смерти. Вот искромсанный ствол истончился до своего предела, внутри что-то громко хрустнуло, дуб вздрогнул и медленно покачнулся. Люди бросились врассыпную. Гулко, с хрустом рвущихся членов, рухнул наземь Священный Дуб, прикрыв собой тонконогую вишню. Казалось, вся долина вздрогнула, и твердь земная поколебалась от этого могучего удара. И все вдруг разом узрели над собой не голубое небо, каким оно было с утра, а тёмные клубящиеся тучи, будто стекавшиеся со всех сторон в лишившуюся защиты долину.
Греки боязливо закрестились, пугаясь надвигающейся грозы, и по команде друнгария поспешили покинуть место недолгой своей дислокации. А небо уже роняло первые крупные слёзы на их железные шеломы, кольчуги и лорики. Раскаты небесного гнева всё приближались, заставляя воинов снимать свои шлемы с гребнями, которые прежде всего может поразить молния. И только философ Иллар, опьянённый победой над Дубом, взобравшись на ствол и подняв руки горе, восторженно восклицал, что гроза – это божий знак ниспровержения языческого Перуна и воцарения на этой земле власти Иисуса Христа!
В тот же день Иллар с отрядом покинул селение. Ему предстояла ещё более трудная задача: поездка в Итиль и философский спор о вере с иудейскими раввинами и сарацинскими муллами.
Лета 869, Итиль
Когда греческий философ и мусульманский кадий удалились, в помещении дворца остались несколько бородатых раввинов, одетых, несмотря на жару, в перепоясанные халаты и шапки.
– Рабби, как тебе удалось так быстро убедить христианина и магометанина признать преимущество иудейской веры? – с удивлением и восхищением спросил один из них, обращаясь к старшему. – Ведь ещё вчера каждый горячо отстаивал только свою точку зрения…
Иудейский первосвященник, прибывший в Итиль специально для словесного поединка с христианскими и мусульманскими философами, загадочно улыбнулся.
– Всё очень просто, братья. Я посоветовал мудрейшему Кагану нашему поговорить наедине с греческим философом и задать ему такой вопрос: твоя вера хороша, но если бы мне пришлось выбирать между исламом и иудаизмом, что бы он выбрал, какая вера, на его взгляд, лучше? Греческий философ ответил, что выбрал бы иудаизм, потому что у исмаильтян нет ни субботы, ни праздников, ни заповедей, ни законов; они едят всякую мерзость, – мясо верблюдов и лошадей, мясо собак и всяких пресмыкающихся. Тогда я посоветовал Кагану поговорить наедине с аль кади, представлявшего ислам, и попросить его сказать по правде, если взять веру христиан и иудейскую веру, то которая из них ему кажется лучшей? Аль кади отвечал Кагану: «Иудейская вера – это истинная вера, а вера христиан не настоящая, они едят свиней и всякую нечисть и поклоняются творениям рук своих».
А сегодня премудрый Каган наш Захария – да сохранит его Творец – задал им прилюдно этот же вопрос. И они вынуждены были повторить свой ответ. И тогда Каган сказал: «Если так, то вы собственными устами вашими признали, что вера Израиля наиболее почтенна, и потому я уже выбрал её, как веру Авраама, по милосердию Божию, силой Всевышнего. Если Господь будет мне помощником, то имущество, серебро и золото, о котором вы сказали мне, мой Бог, на которого я уповаю, и к защите и покровительству которого прибегаю, доставит мне без хлопот. А вы идите с миром в вашу страну».
– Воистину велик твой разум, рабби. Особенно радостно видеть поражение посланника Эдома, философа Константина.
– Хороший слуга нашего дела, умный и, главное, убеждённый, – проговорил иудейский первосвященник.
– Рабби, прости, но это же христианин, именно христианский Константинополь, чтобы ослабить Хазарию, науськивает на нас иные народы! Он только что так горячо спорил с нами, пытался поколебать нашу веру, он наш противник, опасный противник, владеющий нашим языком и знающий наши Писания, – Тору, Танах и Талмуд. Доверенные люди утверждают, что это лучший из учеников патриарха Фотия, самого умного, просвещённого, а потому наиболее опасного для нас из всех патриархов Константинополя! – с недоумением и даже некоторой долей возмущения произнёс один из раввинов.
– Нет, Иоахим, это он так думает, и ты, я вижу, тоже, на самом деле всё совсем не так. – Первосвященник привычным движением медленно огладил редкую седую бороду и произнёс так же неспешно и негромко, но внушительно, понимая, что каждое его слово жадно ловят ведущие раввины Хазарии. – Этот замечательный молодой человек, как и его патриарх, они, в самом деле, полагают, что проводят в жизнь новую веру, истово служат ей и борются за неё, они продвигают её по миру, искренне считая своей. – Раввины внимательно слушали, стараясь уловить, к чему ведёт их мудрый старший собрат. – Пусть христиане строят свои храмы и славят своего Иешуа, но это только один из ликов Творца. Первый же лик его – древний и неизменный – Существующий, имени которого мы не произносим всуе. Иешуа еретик, но он иудей, он обрезан, как и все мы, и христиане празднуют и день его обрезания, и Пейсах, и остальные наши праздники, пусть и называя их по-своему. Славят в своих церквях и роды наши, и наших святых, и царей, и народ иудейский. А потому увеличивают нашу силу. Но это ещё не всё. Все эти гои, живя по законам, прописанным в наших святых книгах, и назвав их по-своему Библией, не знают, что там только часть нашего учения, усечённая для них, а поэтому чем больше они будут утверждать усечённые законы, тем более они будут раздираемы противоречиями, смутой и враждой. – Первосвященник на некоторое время перестал говорить, чтобы успокоить своё старческое дыхание.
– Рабби прав! – Потрясённо проговорил тот, которого назвали Иоахимом. – Уже сейчас Западный и Восточный Рим враждуют между собой, а что будет, когда они расширятся ещё более?!