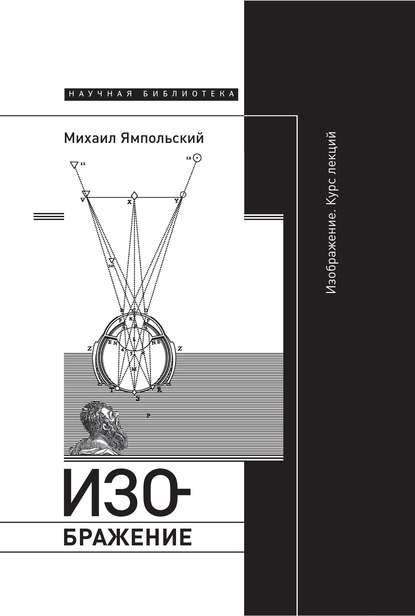По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изображение. Курс лекций
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шильдер рассказывает об экспериментах с образом лица. Если мы закроем глаза и повернем голову вбок, через какое-то время у нас вновь возникнет ощущение, что голова повернута вперед, и при этом лицо становится каким-то уплощенным. Это связано с тем, что схема нашего тела обычно предполагает лицо, смотрящее вперед. «Однако, – замечает Шильдер, – индивид не может полностью игнорировать изменения в ощущениях; отсюда чувство, что лицо стало более плоским»[358 - Paul Schilder. The Image and Appearance of the Human Body. Studies in the Constructive Energies of the Psyche. Milton Park, Routledge, 1999, p. 83.]. Привычная схема, однако, доминирует в нашем самоощущении. Расхождение ощущения тела и его физики существенно, и оно лежит в области отделения образа от носителя.
Каким образом хаос реальности интегрируется в некую наделенную смыслом целостность? В начале Нового времени одну из самых влиятельных моделей зрения предложил Декарт. Для объяснения механизмов зрения он придумал умственный эксперимент, который может быть повторен на практике. Вот как описывал Декарт этот эксперимент в «Диоптрике»: «…взяв глаз только что умершего человека или, в крайнем случае, быка или другого крупного животного, аккуратно отрежете около дна глаза три оболочки, его обволакивающие, так, чтобы большая часть среды М, находящейся там, осталась бы открытой и целой; затем, прикрыв ее каким-нибудь белым телом, настолько тонким, чтобы через него насквозь проходил свет, как, например, куском бумаги или скорлупой яйца RST, вы поставите глаз в отверстие окна, нарочно сделанное для него (как Z), таким образом, чтобы передняя часть BCD была повернута к нескольким предметам, как VXY, освещенным солнцем, а задняя часть с белым телом RST направлена внутрь комнаты Р, где вы находитесь и куда не должен проникать никакой свет, кроме попадающего в глаз, о котором вы знаете, что все его части от С до S прозрачны. Когда спустя некоторое время вы посмотрите на белое тело RST, то увидите, может быть не без удивления и удовольствия, картину, которая непосредственно представит в перспективе все наружные предметы около VXY при условии, если вы позаботитесь о том, чтобы глаз сохранял свою естественную форму, соответствующую расстоянию до предметов: ибо если вы будете на него давить сильнее или слабее, чем нужно, картина станет менее резкой…»[359 - Ренэ Декарт. Рассуждение о Методе с приложениями: Диоптрика, Метеоры, Геометрия. М., Издательство Академии наук СССР, 1953, с. 97.] Декарт проиллюстрировал этот пассаж известной гравюрой.
Декарт. Иллюстрация из трактата «Диоптрика», 1637
Декарт предлагает превратить глаз в камеру-обскуру и заменить сетчатку экраном, на котором должно возникнуть изображение, точно такое, какое предположительно мы имеем в глазу. Эта модель оказалась очень влиятельной. Согласно Декарту, в глазу возникает копия реальности, подобная фотографической картинке. Отсюда и устойчивая идея о существовании некоего сетчаточного изображения. Многие и до сих пор считают, что глаз – это фотоаппарат и что существует это пресловутое сетчаточное изображение. Тогда можно заглянуть в глаз и увидеть на дне глаза картинку, как внутри камеры-обскуры или фотоаппарата. Французский писатель Вилье де Лиль-Адан (хотя и не он один) использовал эту мифологию. В повести «Клер Ленуар», например, он рассказывает о том, как на сетчатке мертвеца удалось увидеть сохранившийся там отпечатавшийся портрет убийцы. Если достаточно быстро вскрыть глаз, то можно еще увидеть то, что жертва видела перед смертью. Это Декарт, окончательно наложенный на фотографию.
Но миметическая модель зрения Декарта имела один недостаток. Для того чтобы увидеть изображение на сетчатке, прямо за ней необходимо расположить фигуру наблюдателя. Современник Декарта Гассенди говорил о том, что модель Декарта ошибочна, потому что, чтобы увидеть изображение на сетчатке, нужен еще один человек – зритель. Значит, говорил он, внутри этого маленького человечка внизу должен быть еще один маленький человечек, который будет видеть то, что в глазу у первого. И так до бесконечности. Конечно, никакого сетчаточного изображения не существует, все это плоды эпохи, которая сначала открыла для себя камеру-обскуру, а затем фотографию.
На самом деле все гораздо сложнее и происходит совершенно иначе. В глаз попадает луч света, он стимулирует клетки на сетчатке, от которой импульс передается по оптическому нерву к небольшим образованиям в глубине мозга под названием боковые коленчатые ядра. Здесь активируются нейроны, реагирующие на сигналы то от одного, то от другого глаза, но никогда от двух глаз одновременно. Эти нейроны реагируют на яркость света или цвета. Отсюда сигнал направляется в зрительную затылочную зону. Часть сигналов идет в затылочную, а часть – в теменную долю. Сигналы идут сложным путем, возвращаясь из зрительной зоны назад, в сторону фронтальной зоны мозга. Этот процесс постоянно задействует разнообразные мозговые структуры. В боковых коленчатых ядрах сигналы начинают расслаиваться и попадают в зоны, где клетки восприимчивы к определенным типам различных сигналов. Разные формы движения воспринимаются разными типами клеток, расположенными в затылочной части. Но всего этого недостаточно для зрения. Чтобы в нашем сознании возник узнаваемый объект, вся эта множественность, возникающая в процессе дифференциации, должна снова быть интегрирована в некое целое. Сначала мы должны разделить сигналы: разные формы активируют нейроны в разных зонах, разные типы движения идут в разные зоны – и только потом они начинают интегрироваться, по мере того как сигналы, проходя через разные разделы коры, возвращаются в средний мозг. Наконец, сигналы достигают района гиппокампа, где завершается зрительное восприятие. А гиппокамп расположен в центральном районе в медиальной височной доле, которая может считаться высшим отделом зрения. Тут происходит классификация сигналов по смыслам, по концептам. Именно тут происходит узнавание.
Еще Виктор Шкловский говорил, что наше зрение завершается узнаванием. Если мы не узнали объект, значит, мы его не увидели. Зрение всегда завершается нахождением смысла. Кант полагал, что мы всегда движемся от ощущения к концепту, что концепт завершает восприятие. Эта вкратце обрисованная мной картина показывает, что вместо декартовской картинки мы имеем сложный процесс сепарации сигналов и их последующей интеграции в разных отделах мозга. То, что в итоге является нам как оптическая копия реальности, внутренняя фотография, – это результат сложного синтеза. Возникают образы, которые, в конечном счете, продукт интеграции со всеми структурами, участвующими в восприятии: слуховыми, моторными, памятью, концептами и так далее. Всякое изображение, которое имеет для нас смысл, – это результат сложных интеграций.
Структура нашего зрения предполагает несколько «типов восприятия». В самом глазу закодированы разные системы. Мы знаем, что человек и животное видят по-разному. Животные воспринимают контрасты и формы, скорость движения, но обыкновенно не видят деталей. В Америке популярна книга, написанная женщиной, страдающей аутизмом, Темпл Грандин, которая прославилась тем, что изменила архитектуру боен, минимизировав стресс идущих на заклание животных. Она считает, что восприятие аутиста похоже на восприятие мира животными. С ее точки зрения, животные панически реагируют на контраст, например, света и тени[360 - Temple Grandin. Animals in Translation. Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior. New York, Scribner, 2005.]. Они начинают метаться. Она переделала бойни таким образом, чтобы животные резко не выходили из света в тень. Их восприимчивость к контрасту обострена гораздо больше, чем у нас, потому что мы читаем не только контрасты, но и детали.
Человеческое зрение устроено более сложно, чем зрение животных. Одна из удивительных вещей – световой спектр, который мы воспринимаем. Световые лучи – часть электромагнитного спектра. Этот спектр включает радиоволны, микроволновые, инфракрасные, ультрафиолетовые, гамма-излучения, рентгеновские лучи, и только крошечную часть этого спектра занимает видимый свет. Крохотная часть – это все, что мы видим. Мы в состоянии видеть только диапазон примерно в 400 нанометров, от 370 до 730 нанометров. Все остальное для нас невидимо. Каждый цвет соответствует определенной волне: 540 нанометров – зеленый, 640 – красный. Цветовое зрение связано с тем, что разные молекулы по-разному абсорбируют цвет, реагируют на разную длину волны. Мы видим отраженный свет, который до нас доходит. Свет, который поступает к нам в глаз, попадает на сетчатку, где расположены светочувствительные клетки. Чтобы их достигнуть, свет должен пройти сквозь странные образования, которые называются «ганглиозные клетки», дальше идут «биполярные клетки», потом «горизонтальные» – и все они нечувствительны к свету. После большого слоя этих клеток, мешающих свету достигнуть светочувствительных рецепторов, луч наконец достигает этого слоя. Светочувствительные клетки состоят из двух типов – палочки и колбочки.
Схема структуры сетчатки человеческого глаза
В глазу доминируют палочки, которые не воспринимают цвет, но зато реагируют на освещенность, контраст света и тьмы. Эти «древние» клетки преобладают также у животных. Они хорошо реагируют на движение. А колбочки движения почти не видят, но видят цвет и детали. В отличие от большого количества животных, мы дневные существа. Многие животные существуют в основном ночью, для них восприятие контраста света и тени принципиально важно, а мы ночью, когда задействованы палочки, практически слепы. Цвет, как я уже говорил, – функция колбочек, поэтому ночью мы не видим цвета.
Кроме того, к сетчатке подходит зрительный нерв, по которому сигналы из глаза идут в мозг. К нему тянутся от клеток нервные волокна. В том месте, где зрительный нерв подсоединяется к сетчатке, – это место называется зрительным диском – вообще нет светочувствительных клеток, это слепое место. Здесь мы ничего не видим. А немного в стороне от него расположена так называемая макула, пятнышко диаметром примерно 5 мм. Внутри нее есть ямка, она называется центральная ямка. В этой крохотной центральной ямке сосредоточено наше дневное зрение, колбочки, способность различать детали, видеть цвет.
Поэтому мы должны все время сканировать мир. Глаз все время движется, чтобы в поле зрения макулы попало как можно большее пространство. Устойчивость картинки мира обеспечивается специальными «стабилизаторами зрения», позволяющими нам не замечать эти движения глаза. Когда мы двигаем головой, благодаря этой системе стабилизации мы не имеем скачка изображения. Давайте посмотрим, что происходит в этой ямке. В ней нет этих горизонтальных или ганглиозных клеток, все расчищено, свет подходит непосредственно к светочувствительным клеткам, туда, где находятся сплошные колбочки.
На сетчатке колбочки доминируют на узком пространстве этой ямки. В самой сетчатке очень много сосудов, через которые должен проходить свет и которые мешают видеть. В центре же ямочки сосудов нет, тут все вычищено, чтобы в нее свет мог проникнуть без помех.
Макула, окружающая ямку, – это небольшое пятно желтого цвета, оно является фильтром и поглощает избыток синего и ультрафиолета, тем самым защищая неприкрытые колбочки в ямке. Этот фильтр защищает глаз от солнечного излучения. Фоторецепторы содержат пигмент, обычно темный, и он поглощает свет. А основная масса ночных животных: кошачьи, еноты – не имеют такого пигмента. Зато у них в глазах есть тапетум, зеркальный выстилающий слой. Свет у них работает иначе, чем у человека. Он доходит до этого отражающего слоя и как от зеркала отражается обратно, подобно тому как это происходит в глазу морского гребешка. Таким образом, свет проходит сквозь сетчатку один раз, а потом сзади снова поступает на сетчатку. На этом основано такое всем известное явление, как яркое свечение глаз некоторых животных в темноте. Мы и наши коты видим мир совершенно по-разному.
Макула и центральная ямка в глазу человека
Структура центральной ямки глаза
Существует три вида колбочек, которые воспринимают цвет. Они чувствительны к разной цветовой частоте и отвечают за три цвета: красный, зеленый и синий. Тут кроется ответ на загадку трех основных цветов спектра, которые так существенны для нашей живописи, для смешения пигментов. Это связано с тем, что мы видим три цвета. При этом рецепторы красного эволюционно возникли позже других. У животных, которые видят цвет, есть только два вида колбочек, а у нас – три. Только редкие виды обезьян – обладатели трех видов колбочек, которые позволяют видеть красный цвет. У дальтоников, которые составляют 10 процентов мужского населения и 1 процент женского, расстройство цветового зрения связано с дефектом в X-хромосомах, из?за которого наиболее поздно развившаяся структура красных колбочек оказывается пораженной. Поэтому дальтоники не видят красный. Эта структура вообще наименее эффективна и чувствительна, поэтому ночью мы воспринимаем синий, зеленый, но красного цвета ночью не видим, он дается нам как черный. Эти позднее других образовавшиеся колбочки менее стабильны.
Итак, в нашем глазу мы имеем две системы. Одна воспринимает контрасты – это палочки. Она занимает большую часть сетчатки – это доминирующая и наиболее эволюционно древняя система. Она воспринимает контрасты, движения и освещенность. Она чувствительна к количеству фотонов, которые отражаются и попадают к нам в глаз. Эта система улавливает интенсивность света, но не воспринимает цвет. И это чувствительные к цвету колбочки, сосредоточенные на крошечном пространстве центральной ямки. Мы имеем две разные системы зрения, как будто два типа глаз совмещены в одном, и они все время должны интегрироваться, но могут и дезинтегрироваться. Свет и цвет воспринимаются двумя разными системами, и, строго говоря, поразительно, что нам удается их совмещать. Например, синий нам дается всегда как менее освещенный. А желтый, отражающий такое же количество фотонов, нам будет казаться более ярким. Такого рода эффекты проявляют себя в живописи. Взять хотя бы известный пейзаж Клода Моне «Восход солнца, впечатление» (1872), от которого пошло название импрессионизм. Здесь изображено солнце и его отражение в воде. Моне, который был невероятно чувствителен к свету, придал солнцу и дымке, сквозь которую оно светит, абсолютно одинаковый уровень освещенности. Это хорошо видно на черно-белой фотографии картины, ведь черно-белая фотография фиксирует как раз то, что видит система палочек. Она фиксирует освещенность, контрасты, но не цвет. И на этой черно-белой фотографии нет солнца, оно исчезло, потому что имеет такой же уровень освещенности, как и фон, между ними нет контраста. Моне создает контраст, противопоставляя синий и красный. Благодаря свойствам нашего зрения синий нам кажется более тусклым, а красный – более ярким. Это и создает эффект восхода солнца. Мы видим этот пейзаж двумя разными системами (фиксирующей степень освещенности и фиксирующей цвета), которые потом интегрируются, и в результате мы получаем эффект этого живописного полотна.
Различия между освещенностью и цветом в значительной мере зависят от упомянутых мной ганглиозных клеток. Они существуют в большом количестве и служат первичными интеграторами зрения, они собирают сигналы воедино. Ближе к периферии сетчатки они имеют очень разветвленные отростки, ближе к макуле – маленькие отростки и с их помощью могут создавать сеть из двух-трех клеток, а в районе самой центральной ямки одна ганглиозная клетка соединяется всего с одной колбочкой. Если клеток в этой сети будет больше, пропадет детальность нашего видения. Это первые интеграторы, поэтому там есть горизонтальные клетки, которые создают дополнительный уровень интеграции по отношению к ганглиозным клеткам. Ганглиозные клетки, интегрируя группы рецепторов, позволяют нам прочитывать контрасты, отличать светлое от темного. А организация контрастов лежит в основе организации форм. Та информация, которая делает нас людьми, тесно связана с нашим умением видеть детали. А движение воспринимается там, где сильнее интеграция, позволяющая воспринимать движение как образ, единую картинку.
Сказанное существенно для понимания живописи. Взять хотя бы картину Пуссена «Похищение сабинянок».
В ней движение и неподвижность находятся в очевидном контрасте. Каждое тело тут движется, каждое невероятно энергично, но в целом картина кажется нам на удивление статичной. Здесь нет динамики. Эта живопись ориентирована на колбочки, на детальное рассмотрение. Картина построена так, что она нарушает нашу способность видеть ее зонами контрастов, которая и позволяет воспринимать движение как единый динамический образ. Любопытно сравнить эту картину с полотном на тот же сюжет Рубенса. По сравнению с Пуссеном оно кажется очень динамичным.
Никола Пуссен. Похищение сабинянок, 1634–1635. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Питер Франциск Мартениси. Гравюра по картине Петера Пауля Рубенса «Похищение сабинянок», 1763–1769. Рейксмузеум, Амстердам
Чтобы достичь этого эффекта, художнику пришлось собрать тела в массы, противопоставить одну массу другой, оставить в середине пустоту и одновременно подавить установку зрителя на чтение деталей. В результате полотно Рубенса мобилизует другой тип восприятия, который позволяет читать динамику. Рубенс понимает, что достижение динамики возможно лишь там, где блокировано чтение отдельных деталей, иначе общее динамическое целое будет разрушено. Неудивительно, конечно, что живопись тесно связана с особенностями нашего зрения. Один тип живописи в большой мере мобилизует периферическое видение, а другой – центральное.
Психологи различают наличие двух систем – where system и what system: систему «где» и систему «что». Система «где» определяет общую локализацию, топографию места, фиксирует движение, она связана с палочками. А восприятие деталей, понимание вот этого «что» осуществляют колбочки. Эволюционно две системы возникают в разные периоды. Система «где» более старая. Различие между этими системами никогда не исчезает, сигналы идут по-разному, интеграция их происходит только на уровне сложных психических процессов. Те сигналы, что посылают в мозг колбочки, первоначально не синтезируются с теми, что посылают палочки. Интеграция происходит позже, и это важно. Первоначальная сепарация позволяет осуществить не просто смешение сигналов от разных систем в общую массу, а относительно структурную интеграцию. Все искусство замешено на этой двойственной системе, поэтому она так существенна.
Под конец я хочу остановиться на загадке улыбки Моны Лизы. Одни, как известно, видят эту улыбку, другие нет. Считается, что это первый улыбающийся портрет в истории живописи. У советского поэта Павла Антокольского есть стихотворение «Встань, Прометей!», в котором есть странное четверостишие об этой улыбке:
Встань, Леонардо, свет зажги в ночи,
Оконце зарешеченное вытри
И в облаках, как на своей палитре,
Улыбку Моны-Лизы различи.
Улыбка Моны Лизы. Из книги: Margaret Livingstone. Vision and Art. The Biology of Seeing. Los Angeles; Berkeley, University of California Press, 2004
Странным мне оно кажется потому, что поэт считает, что улыбка Джоконды являет себя в ночи, то есть именно тогда, как отключена система зрения «что». И эта неожиданная интуиция как будто получает подтверждение в науке.
Психолог, занимающаяся искусством, Маргарет Ливингстон утверждает, что улыбка Моны Лизы связана с восприятием этой картины двумя системами. Одна система позволяет увидеть улыбку, а вторая ее стирает. Улыбка возникает в системе «где», доминирующей в ночном видении и усиливающей контрасты. Когда же мы переходим к системе «что» и сосредотачиваемся на деталях, улыбка становится менее заметной.
Чем выше четкость изображения, тем менее улыбчива Мона Лиза. Динамизм улыбки связан с системой контрастов и исчезает вместе с ними. Ливингстон утверждает даже, что чтение мимики оказывается эффективней в рамках более архаичных систем восприятия: «Когнитивные процессы высокого уровня, – пишет она, – такие как речь, могут заглушать процессы более низкого уровня, такие как интерпретация эмоциональных состояний. Я подозреваю, что люди могут лучше оценивать правдивость, если лица тех, кто лжет или говорит правду, немного выведены из фокуса»[361 - Margaret Livingstone. Vision and Art. The Biology of Seeing. Los Angeles; Berkeley, University of California Press, 2004, p. 73. Пример с картиной Моне я тоже позаимствовал у Ливингстон.]. С ее точки зрения, улыбка в полной мере проявляет себя в результате определенного зрительского поведения. Для того чтобы хорошо ее увидеть, мы должны сначала смотреть на уши или прическу Моны Лизы, отвлечься от губ и увидеть периферическим зрением улыбку как систему контрастов, а затем перевести глаза на ее губы. Тогда произойдет перенос контраста, воспринимаемого нашим боковым зрением, на центр, и Джоконда начнет улыбаться. Все тут связано с переносом взгляда от периферии к центру.
В сущности, речь тут идет о том, что всякая живопись должна пониматься как динамическая интеграция по меньшей мере двух систем. Зритель все время переходит от одного типа восприятия к другому. Но в некоторых направлениях живописи несомненна преобладающая ориентация на одну из этих систем. Так, некоторые картины импрессионистов построены в основном на контрасте цветов, которые сливаются воедино и приносят деталь в жертву динамизму. Несмотря на значимость цвета, импрессионизм во многом ориентирован на периферийную систему восприятия, а академическая живопись – на центральную систему восприятия.
Мы все время занимаемся интеграцией разных систем. Речь идет о сложном процессе, описываемом отношением центр/периферия, которое еще в 1953 году было досконально исследовано психологом Стивеном Каффлером. Одна из важных проблем восприятия – это экономия его организации. Мы не можем воспринять оттенки цвета и освещенности каждого пикселя в отдельности. На принципе сходной экономии построена запись и передача изображений, известная как система JPEG. Фотографии, кодирующие характеристики каждого пикселя, потребуют огромного объема памяти. JPEG фиксирует однородные зоны и кодирует зону как многократное повторение одного пикселя. Точно так же работает наш мозг. Каффлер заметил, что маленькие пятнышки света лучше активируют рецепторы, чем большие пятна. Одновременно активируются и ингибируются ганглиозные клетки. При этом ингибируются рецепторы, непосредственно примыкающие к зоне активного восприятия. Возникает отношение центр/периферия, сопровождающееся подчеркиванием границ между разными зонами, то есть, в конечном счете, усилением контраста. Все, что находится внутри границы, воспринимается как один оттенок цвета и уровень световой интенсивности, а все, что расположено на внешней стороне границы, – как другой. Таким образом, происходит упрощение организации видимого поля. При этом мы все время занимаемся перераспределением отношения центр/периферия, что позволяет нам более экономно и эффективно обрабатывать информацию об изображении. Не будь этой упрощающей системы, мы бы тратили на визуальное восприятие гораздо больше времени и энергии. Ганглиозные клетки тут активно задействованы, ведь именно через них происходит первичное объединение этих зон.
Этот упрощенный экскурс в анатомию и физиологию нашего зрения нужен мне, чтобы уйти от понимания изображения как статичной картинки и еще раз подчеркнуть, что изображение – это результат многоуровневого динамического процесса, обладающего сложной интегративной функцией. Разные системы интегрируются, но каждый раз могут интегрироваться по-разному, как показывает Ливингстон на примере с улыбкой Моны Лизы. Мы переходим от одного момента к другому, все время меняется распределение зон центра и периферии и, соответственно, меняется то, что мы видим. Мы по-разному соединяем контрасты, освещенность, цвет. Это мерцающая система, которая синтезируется, дифференцируется, меняется. Изображение – это не предмет, но процесс в нашем сознании. Самые замечательные живописцы принимали это в расчет.
Лекция IV
В прошлый раз я говорил об особенностях зрения и коротко о том, как анатомия и физиология нашего зрения отражаются в искусстве. Сегодня я попытаюсь выйти на другой уровень антропологии. Моя задача – постепенно двигаться от биологии к культуре и искусству. Мне еще предстоит более подробно остановиться на примитивном племенном искусстве. А сегодня я хочу поговорить о возникновении формы, о связи формы и человеческого тела, о том, как человеческое тело начинает оформляться как некая форма. В прошлой лекции я говорил о том, что человек отличается от животного мира своей наготой и «безвидностью». Американский антрополог Десмонд Моррис написал влиятельную книгу о человеке – «Голая обезьяна». Нагота этой обезьяны должна быть принята в расчет, когда мы говорим о ней. Мы уже обсуждали свойство человека покрывать себя изображениями, которые придают ему определенность, проецируют на него идентичность, но при этом речь идет об определенности социального типа, например принадлежности к племени или клану. Индивидуальная идентичность, конечно, тоже может создаваться одеждой и гримом. В упомянутом мной племени омо из южной Эфиопии живопись на теле и лице одновременно и уничтожает индивидуальность, и создает ее. Речь идет о некоем мерцании индивидуального и родового, характерном, например, для феномена моды.
Сказанное отсылает к одному качеству, которое, как мне кажется, напрямую связано с появлением формы человека в изображениях, – это стыд. Стыд неизвестен животным. Именно человек испытывает стыд наготы. Это характерное явление в той или иной степени присутствует во всех культурах, за исключением самых примитивных племен, которые еще недавно можно было найти среди, например, австралийских аборигенов. Почти всюду люди прикрывают свои гениталии, некая загадочная сила заставляет их украшать себя, одеваться и скрывать части своего тела.
Фрейд говорил, что человеческие гениталии бесформенны и в силу этого вызывают отвращение. За исключением состояния эротического возбуждения, вид половых органов неприятен человеку. В этой ситуации сложно проявляется неустойчивая оппозиция форма/бесформенное. Стыд интересен тем, что он в иной перспективе возвращает нас к вопросу о глазе и взгляде. Стыд невозможен без взгляда, обращенного на испытывающего его человека. Выражаясь философски, стыд прямо связан с «бытием-для-другого». Жан-Поль Сартр так писал о стыде: «… личность представлена сознанию, поскольку она есть объект для другого. <…> стыд <…> является стыдом перед собой, он является признанием того, что я есть тот объект, на который смотрит другой и судит его»[299 - Жан-Поль Сартр. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., Республика, 2004, с. 283–284.]. Иными словами, стыд возникает под воздействием инверсии глаза во взгляд.
Но в своем рассказе я обращусь не к Сартру, а к немецкому феноменологу Максу Шелеру, автору специального эссе о стыде. Cтыд обладает свойством исчезать и появляться. Приходит женщина к незнакомому мужчине-гинекологу и во время медицинского осмотра не испытывает стыда. Или мать, когда бежит на помощь своему ребенку, не испытывает стыда, даже если она почти не одета. Согласно Шелеру, стыд – это чувство обращенности к самому себе, чувство себя, и в этом смысле он солидарен с Сартром, у которого это тоже чувство себя, испытываемое через взгляд другого. Если человек полностью поглощен чем-то вне себя, он не испытывает стыда. Но стыд не появляется и тогда, когда человек воспринимается другими не как неповторимый индивид, а как некая безличная роль, функция, например роль пациентки в кабинете гинеколога и роль натурщицы перед художниками. Но, замечает Шелер, ощущение себя индивидом не всегда вызывает стыд. Вот что пишет философ: «„Обращение“ к самому себе, укорененное в этой динамике стыда, не происходит, когда человек „дан“ самому себе как нечто общее или индивидуальное. Оно возникает тогда, когда ощущаемая интенция другого колеблется между индивидуализирующей и генерализирующей установкой и когда моя собственная интенция и ощущаемая мной противоположная интенция имеют не общее, но противоположные направления»[300 - Max Scheler. Shame and Feelings of Modesty. – In: Max Scheler. Person and Self-Value. Three Essays. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1987, p. 16.]. Иными словами, стыд возникает тогда, когда установки человека, который его испытывает, и того, кто на него смотрит, имеют противоположные направления. Женщина у врача хочет быть безликой пациенткой, а врач, вместо того чтобы следовать ее желаниям, начинает видеть в ней предмет особого интереса, индивида.
Стыд появляется при переходе от всеобщего, от усредненности к индивидуальному или наоборот. Этот переход любопытен. Человек существует в качестве родового существа и индивида одновременно. Животное – тоже родовое существо, но оно не достигает той степени индивидуации, которая доступна человеку. Не припомню, кто именно говорил, что кошмар – это животное с индивидуированным человеческим лицом или же человек с мордой животного. Одежды, украшения, татуировки прежде всего выражают родовое, связанное с тотемом. Члены племен, которые в рисунках на теле используют изображения животных, уподобляют себя животным. Есть исследования, например Леви-Брюля, который говорит, что в такого рода племенной культуре человек не отличает себя от животного, который является его тотемом. Согласно его интерпретации, некоторые индейцы бороро не признают отличий между собой и попугаями арара: «„Бороро <…> хвастают, что они – красные арара (попугаи)“. Это вовсе не значит, что только после смерти бороро превращаются в арара или что арара являются превращенными в бороро и поэтому достойны соответствующего обращения. Нет, дело обстоит совершенно иначе. Это не имя, которое они себе дают, это также не провозглашение своего родства с арара, нет. Бороро настаивают, что между ними и арара присутствует тождество по существу. Фон ден Штейнен полагает непостижимым, как они могут считать себя одновременно человеческими существами и птицами с красным оперением. Однако для мышления, подчиненного закону партиципации, в этом нет никакой трудности»[301 - Люсьен Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., Педагогика-пресс, 1994, с. 63.].
С другой стороны, человек – это крайне индивидуализированное существо, вся его биография связана с индивидуацией, как говорят философы. Человеческая мода всегда колеблется между снятием индивидуальности и ее подчеркиванием. Мода диктует тип, создает единообразие и одновременно является способом индивидуировать себя в рамках этого единообразия. То же и с татуировками. Девочка, любящая татуировки, пытается выделить себя из массы и одновременно становится частью массы татуированных девочек и исчезает в ней.
В интимных отношениях стыд, по мнению Шелера, исчезает, отчасти потому, что в них исчезает индивидуальность. Мы регрессируем на уровень животных. Индивидуальность партнера, которая важна перед этим и после этого, растворяется в физиологическом акте, который ее снимает. Лакан говорил, что романтическое чувство любви призвано восстановить индивидуальность отношений после полового акта. Личность возникает в любви в противовес ее исчезновению в телесных отношениях.
Тело – это такая поверхность, на которой индивидуальность в принципе поглощается всеобщим. Человеческое восприятие превращает мир в знаки, значимые тотальности. Тело идеально значит. Западная культура традиционно отделяет тело от лица. Лицо специализируется в индивидуальном, тело снимает ту индивидуальность, которая есть в лице. Лицо этому сопротивляется. В Древней Греции, придумавшей эстетику наготы, нет лиц. Тело подчеркивает всеобщность, принадлежность к человечеству как виду. И тут существенно смешение всеобщего, видового с идеей красоты, которая как бы поглощает индивидуальность. Красота по-гречески – ?????? (kаllos), это нечто чувственно данное, но у Платона чрезвычайно приближающееся к невидимой высшей идее блага. У греков всеобщее и прекрасное характеризуют тело, потому что оно приобретает форму. Казалось бы, ничего не надо придумывать, у нас у всех есть тело, имеющее какую-то форму. Но это далеко не так.
Джорджо Агамбен, например, остроумно заметил, что нагота в принципе недостижима и не может быть представлена в виде некоей конечной формы. Он говорит о стриптизе как об акте, который никогда не может быть завершен явлением наготы: «Как событие, которое никогда не достигает завершенной формы как форма, не позволяющая вполне схватить себя, когда она случается, нагота, – пишет он, – в прямом смысле слова бесконечна: она никогда не прекращает случаться»[302 - Giorgio Agamben. Nudities. Stanford, Stanford University Press, 2011, p. 65.]. Агамбен даже говорит о поражении взгляда, устремленного на обнаженное тело, так как нагота всегда остается недостижимой, даже если на человеке не осталось ни клочка одежды. Агамбен ссылается на теологическое толкование невинной наготы Адама и Евы в раю, согласно которому они были одеты в благодать. Философ пишет: «То, что благодать подобна одежде (Августин называет ее indumentum gratiae), означает, что как и любая одежда, она – добавка, которая может быть удалена. Но именно поэтому прибавка благодати изначально создала человеческую телесность как „обнаженную“, а ее изъятие вновь возвращает к предъявлению наготы как таковой»[303 - Ibid., p. 62.].
Агамбен считает, что западное отношение к телу насквозь пронизано христианским богословием. Но я думаю, что важнее тут не Августин, а греки, у которых нагота действительно постепенно превратилась в невидимую одежду, которую христиане позже связали с благодатью. Гай Давенпорт в одном из своих рассказов пишет: «…быть нагим и голым – разные вещи. Давид Микеланджело был наг, стройные скауты в „Nа? Skautik“ были нагими, в шортах хаки или без, а вон тот старый пердун с пучками волос, торчащими из ушей, беременный волейбольным мячом, с тощими ногами и морщинистыми коленями, – голый»[304 - Гай Давенпорт. Погребальный поезд Хайле Селассие. Тверь, Kolonna Publications и Митин Журнал, 2003, с. 7.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: