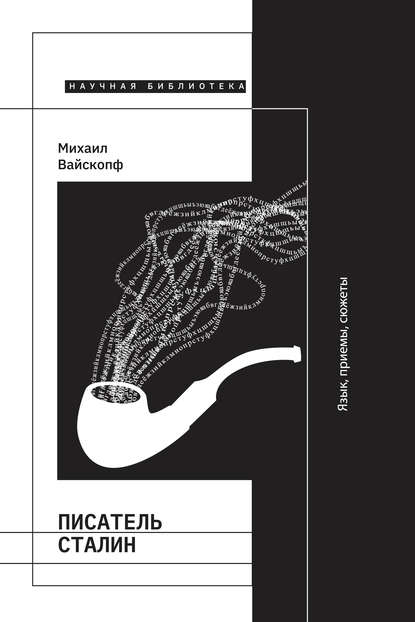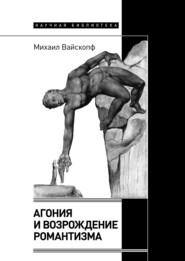По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Депутата, свернувшего с дороги, они [избиратели] имеют право прокатать на вороных.
Тут же дается аляповатая реализация этой земско-помещичьей идиомы («на вороных»), отождествляющая избирателей с лошадьми, которые сбрасывают всадников:
Мой совет <…> следить за своими депутатами и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч.
В другом случае колористические ассоциации, навеянные тезисом насчет расового равенства граждан СССР, переходят у Сталина в соседний мотив лошадиных мастей и столь же сумбурную дорожно-транспортную метафорику:
Черные и белые, русские и нерусские, люди всех цветов и народностей стоят в одной упряжке и тянут вместе дело управления нашей страной.
Ср. типологически близкие примеры:
Двух зайцев хотели убить в день выстрелов. (Имеется в виду «Кровавое воскресенье».)
Вы умели биться на улицах против царских фараонов.
«Фараоны», т. е. городовые, механически соотнесены с царем, который явно ассоциируется с египетским правителем из Библии. Столь же автоматически «сэр» тянет за собой смежных «джентльменов»:
Из кого состоит эта самая революция? Из «неизменного» Керенского, из представителей кадетов <…> и из одного сэра, стоящего за спиной этих джентльменов.
Ср. также:
Беспартийность чувствует свое бессилие в деле объединения несоединимого и поэтому вздыхает: «Ах, если бы, да кабы во рту росли грибы!»
Вероятно, Сталин принял эту, оборванную им, пословицу за творение какого-то неведомого стихотворца и потому предусмотрительно ее закавычил и разбил на поэтические строки. Продолжение же пословицы – насчет «огорода» – тут же провоцирует его на незатейливое расширение ботанического смыслового ряда:
Но грибы во рту не растут, и беспартийность каждый раз остается на бобах, в чудаках. Человек безголовый, или – точнее – с репой на плечах вместо головы – вот беспартийность.
Сходным образом переплетающееся с тем же набором аграрных ассоциаций слово «растут» влечет за собой «расцветают», употребленное, однако, совсем не по назначению:
На наших глазах растут и расцветают новые люди.
Даже конспиративная фантазия Сталина предпочитает созидать новые формы из подручного, близлежащего материала. Когда во время войны ему от избытка бдительности захотелось замаскировать фамилии своих полководцев, он снабдил их псевдонимами, которые были всецело выстроены на основе их собственных имен. Из отчества Баграмяна – Христофорович – возник Христофоров, а из отчества Жукова – Константинов. Семен Буденный сделался Семеновым, Александр Василевский – Александровым, Климент (Клим) Ворошилов – Климовым[81 - См.: Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 1. С. 290.] и т. п.
Временами моторные ассоциации носят чуть более сложный характер:
Каменевщина периода апреля 1917 года – вот что тянет вас за ноги, т. Покровский.
То есть «каменевщина» пробудила у автора представление о камне, который тянет за ноги утопленника.
Вступая в работу, мы знаем, что путь наш усеян терниями. Достаточно вспомнить «Звезду», перенесшую кучу конфискаций.
Соединение «терний» со «Звездой» подсказано знаменитым «через тернии к звездам», тогда как «куча конфискаций» представляет собой, вероятно, прямое видение газетных кип, конфискованных полицией.
Сопричастность вместо аналогий
За любыми литературными приемами Сталина ощутимы те или иные культурные, ментальные и политические притяжения, взывающие к реконструкции в рамках более широкого контекста. Забегая вперед, следует уточнить, что речь идет о некоторых специфических приметах, разделяющих раннебольшевистский и меньшевистский дискурс и обусловленных базисными особенностями обоих движений. Оплодотворенный семинарией жречески-наставительный слог Сталина мог так впечатляюще разрастись лишь на пажитях раннего большевизма, обладавшего полнотой истины (имеется в виду, конечно, ленинский, а не богдановский извод этой идеологии). При всей своей догматической зачарованности, меньшевизм отличался от него все же большей внутренней свободой, сопряженной с организационной нестабильностью, центробежностью и автономизмом; кроме того, смягчению суровых марксистских нравов несколько способствовала и меньшевистская теоретическая установка на сближение с «либеральной буржуазией». Большевистскому волевому централизму, прагматике и дисциплине (соединявшимся с разжиганием массовых стихийно-разрушительных импульсов) здесь отвечал скорее морально-идеологический консенсус, рассудочный диктат старой доктрины. Само собой, мы тут по необходимости упрощаем живую реальность – эмоциональную, текучую и хаотическую, подверженную влиянию случайных факторов; но ясно, что регулятивные принципы или главенствующие тенденции соперничающих группировок не могли не сказаться на культурном самосознании их сторонников.
Как известно, меньшевизм, сохраняя верность статической модели марксизма, подбирал для всякого данного этапа предуказанного социального развития ближайшее соответствие на исторической шкале[82 - «Меньшевики гораздо больше своих конкурентов-большевиков следовали букве марксизма, стараясь действовать в строгом соответствии с линией поведения Маркса и Энгельса в 1848 году, поскольку ситуация в Европе в середине XIX века, по их мнению, больше всего напоминала ситуацию в России в начале 900?х годов. В большом ходу в меньшевистской публицистике (А. С. Мартынов [Пиккер] и др.) были также аналогии с эпохой Великой французской революции конца XVIII в.» (Тетюкин С. В. Меньшевизм как идейно-политический феномен // Меньшевики: Документы и материалы 1903–1917 гг. М., 1996. С. 14).]. Традиция пришла с Запада, но обилие евреев среди меньшевиков и впрямь придавало раввинистический привкус этой методе, в которой проглядывало нечто от талмудической экзегезы с ее сопоставительной синхронизацией разновременных явлений и приемом расширительных аналогий («каль ва-хомер»). Конечно, у большевиков, включая Ленина, тоже мелькали все эти сравнения современных российских событий с Великой французской революцией, 1848 годом, Парижской коммуной и т. п. (уже в 1920?е годы такие параллели – преимущественно между сталинским режимом и «термидором» – возлюбил Троцкий), но эксплуатировались они все же гораздо реже и почти исключительно в ритуальных или полемических целях. Мало затронула большевизм и древнехристианская традиция аллегорического «прообразования». Сама эта манера была принципиально чужда ленинскому направлению, упорно претендовавшему на живую, диалектическую динамику, открытость и злободневность. Так, говоря о своем режиме, Ленин называет его прямым «продолжением», а вовсе не аналогом Парижской коммуны. Соответственно, и Сталин объявляет последнюю не прообразом, а «зародышем» советской власти. Видимо, это была действительно общая черта большевистской поэтики, присущая и тем, кто, как А. Богданов, призывал «освободить большевизм от ленинизма». Скажем, в программно-«впередовской» статье «Социализм в настоящем» (конец 1910 года) он пишет, что пролетарская организованность и сотрудничество – «не прообраз социализма, а его истинное начало»[83 - Неизвестный Богданов: В 3 кн. М., 1995. Кн. 2. С. 92.]. Бухарин в 1922 году высмеивает свойственный «социал-демократическим талмудистам» прием «аналогий и исторических параллелей», «крайне рискованных» и даже «бессмысленных» («Буржуазная революция и революция пролетарская»)[84 - Бухарин Н. И. Путь к социализму в России // Избр. произведения. New York, 1967. С. 157–159, 162.].
Привычно подражая в определениях «лучшему теоретику», Сталин вполне искренне солидаризуется с его подходом. К мишуре интеллигентских сравнений он относится с открытым презрением, поддержанным сочетанием невежества, патриотизма и здоровой житейской эмпирики: «Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных условий», – в 1925 году говорит он немецкому коммунисту Герцогу. «Меньшевистскую группу» в марксизме Сталин порицает именно за то, что «указания и директивы черпает она не из анализа живой действительности, а из аналогий и исторических параллелей», – и за ту же манеру бранит Троцкого (бывшего меньшевика), увлеченного «детской игрой в сравнения».
В конце 1931 года, отвечая на вопрос Эмиля Людвига о своем предполагаемом сходстве с Петром Великим, Сталин слово в слово повторил формулы не упомянутого им Бухарина: «Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна»[85 - Очень редко и преимущественно в полемических видах он, правда, и сам использует параллели (например, между китайской и Октябрьской революциями), подбирая для них примитивное методологическое обоснование. Так, дискутируя с Зиновьевым, по большевистской традиции осудившим этот метод, он заявил: «Было бы глупо утверждать, что нельзя вообще брать аналогий <…> Разве революция одной страны не учится у революций других стран, если даже эти революции являются неоднотипными? К чему же сводится тогда наука о революции?» Следует дежурная апелляция к Ленину, который, по счастью, в одной своей статье, оказывается, «широко пользовался аналогией из французской революции 1848 года при характеристике ошибок тех или иных явлений перед Октябрем».]. Сопоставлению он обычно предпочитает уже знакомый нам принцип смежности или причастности: «Я только ученик Ленина, и цель моей жизни – быть достойным его учеником <…> Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин – целый океан». Капля и океан – часть и целое: сравнение заменено как прямой преемственностью («ученик»), так и включением в общность.
Смена тропов далеко не безобидна. Ср. ее грозные возможности, приоткрывающиеся, например, в поздней брошюре Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», где разбор «ошибок т. Ярошенко» строится в двух планах – отрицательном (это не Маркс и не Ленин) и положительном (к кому же они тогда восходят?). Проследим последовательность его ходов, развернутых на протяжении нескольких страниц; для наглядности я использую отдельное издание 1952 года:
а) Вместо марксистской Политической экономии у т. Ярошенко получается что-то вроде [аналогия] «Всеобщей организационной науки» Богданова (С. 64);
б) Следует отбросить не ленинскую формулу, являющуюся единственно правильной, а так называемую формулу т. Ярошенко, явно надуманную и немарксистскую, взятую из богдановского арсенала [причастность] «Всеобщей организационной науки» (С. 66);
в) Поступать так, «как это делает т. Ярошенко, – значит подменить марксизм богдановщиной» [прямое отождествление с врагом] (С. 70).
Но Сталину нужен гораздо более демонизированный противник, чем полузабытый Богданов, – и он без труда его находит:
а) У него [Ярошенко] получается… что-то вроде бухаринской [аналогия] «общественно-организационной техники» (С. 64);
б) В этом вопросе т. Ярошенко перекликается с Бухариным [контакт, т. е. общность] (С. 71);
в) На самом деле он делает то, что проповедовал Бухарин и против чего выступал Ленин. Тов. Ярошенко плетется по стопам Бухарина [непосредственное отождествление и причастность] (С. 72).
Справедливости ради надо сказать, что приоритет в использовании подобных приемов принадлежит все же Ленину, о чем можно судить хотя бы на материале «Материализма и эмпириокритицизма». У Сталина такие ходы могут носить принципиально безличный характер, как происходит, допустим, в его докладе на XVII съезде (1934): «Эта путаница в головах и эти настроения, как две капли воды, похожи на известные взгляды правых уклонистов». Затем от сходства «двух капель» дается переход к их прямому слиянию; точнее, аналогия подменяется гомогенностью, идеей прорастания (ср. «зародыш») и губительного укрупнения уцелевшей части: «Как видите, остатки идеологии разбитых антиленинских групп вполне способны к оживлению». Инквизиторская отмычка действует безотказно: «Случайно ли это совпадение взглядов? Нет, не случайно…»
Несколько иную версию ступенчатой схемы Сталин использовал в 1940 году, когда гнобил А. Авдеенко. Динамика такова: 1) «Весь грех Авдеенко состоит в том, что нашего брата – большевика – он оставляет в тени, и для него у Авдеенко не хватает красок»; 2) «Он так хорошо присмотрелся к врагам, познакомился с ними до того хорошо, что может изобразить даже с точки зрения отрицательной и с положительной»; 3) «Я бы хотел ошибиться, но, по-моему, едва ли он сочувствует большевикам»; 4) «Я думаю, что он человек вражеского охвостья <…> и он с врагами перекликается»[86 - Сталин И. Соч. Тверь. Т. 18. С. 203–204.]. Главное – приобщить жертву к врагам, агентами которых и предстают все эти Богдановы, Бухарины, как и примкнувшие к ним Ярошенко или Авдеенко.
Мы соприкасаемся здесь с универсальным качеством сталинской риторической технологии: несмотря на свою дань революционной метафорике, подлинное первенство она отдает метонимии и синекдохе, роднящим ее одновременно и с архаикой, и, естественно, с авангардом (к которому так настойчиво прикрепляет Сталина Борис Гройс[87 - Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993.]). В позитивном аспекте эта – по сути, чисто пространственная – поэтика эстетически соответствовала организационной модели большевизма, исходно строившегося – по крайней мере, в теории – как унифицированная структура однородных расходящихся ячеек, управляемых из общего центра[88 - Комментируя программную ленинскую брошюру «Что делать?», Такер говорит, что Ленин хотел создать партию, «чье влияние будет распространяться концентрическими кругами от ядра», состоящего из вождей (Указ. соч. С. 41).]. (И под ту же модель со временем подстраивался образ идеологического противника – только он представительствовал от другой, враждебной совокупности.) Сам этот центр официально призван был замещать «партию в целом», подавляя от ее имени любые претензии на качественные отличия и самобытность. По определению Ленина в «Шаг вперед, два шага назад», такая система обуславливалась неукоснительным подчинением «части целому», готовностью «пожертвовать всей и всякой групповой особностью и групповой самостоятельностью в пользу великого, впервые на деле создаваемого нами, целого: партии»; так налаживалась «единая партийная связь всех социал-демократов России», «материальное единство организации» – в противовес идейной, т. е. субъективной и расплывчатой, «интеллигентской» доминанте, выдвигавшейся меньшевиками.
Легко разглядеть, конечно, кровную связь между этой декларативной ориентацией на принципиальную гомогенность движения и марксистско-плехановским пафосом безличных масс, растворяющих или приобщающих к себе индивида. Марксизм дружески аукался с традиционной имперсональностью и «соборностью» отечественной религиозной традиции, перелицованной на пролетарский и пролеткультовский лад. «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени класс», – писал уже в советское время бывший сверхиндивидуалист Маяковский, вторя заветам агитпропа. И когда Сталин лицемерно рассуждает о «капле» и «океане», он просто переиначивает траурное обращение ЦК после смерти Ленина: «Каждый член нашей партии есть частичка Ленина»[89 - Цит. по: К годовщине смерти В. И. Ленина. 1924 – 21 января – 1925: Сб. статей, воспоминаний и документов. Л.; М., 1925. С. 20.].
Безусловно, сталинская пропаганда вовсю разрабатывала именно «исторические параллели»: Александр Невский, Иван Грозный и Петр Первый как бы «прообразовывали» вождя. Но тут необходимо учитывать установочное расхождение между официально-экстатическим сталинским культом и его «авторским образом», канонизированным в речах и писаниях[90 - Ср.: «Не стоит полностью отождествлять официальную культурную политику тех лет с личностью ее главного творца. Он позволял себе, в определенных пределах, и не считаться с нею, отходить от нее» (Громов Е. Указ. соч. С. 6).]. Индивидуальная стилистика Сталина по большей части манифестирует умышленный разрыв с этой выспренней пропагандой, опирающейся на громоздкие исторические прецеденты, создавая вождю алиби за счет его большевистской «скромности», деловитости и реализма. Он выступает как часть, адекватно представляющая целое, как безлично-аскетическое воплощение партийной веры, воли – и несокрушимой марксистской «логики». Рассмотрим ее подробнее, начав, так сказать, с математических представлений Сталина.
Процент истины
Марксистская политэкономия и большевистский коллективизм, вечный примат класса, массы над ничтожной «частицей» стимулировали цифровой подход к реальности, который уже в сталинские (и послесталинские) времена трансформировался в статистическую манию режима, вечно озабоченного подсчетами своих военных, экономических и прочих достижений. С неменьшим усердием режим занимался, однако, их агитационной фальсификацией. И конечно, непревзойденным мастером или изобретателем подобных ухищрений и подтасовок был Сталин.
Цифры, как и сама жизнь, должны соответствовать его теоретическим прозрениям – а не наоборот. Выступая на XV съезде (декабрь 1925 года), он свирепо обрушился на крайне неприятные ему статистические данные по социальной дифференциации крестьянства в советское время (до «великого перелома» еще далеко, и Сталин, придерживающийся «правой» ориентации, пока вовсе не заинтересован в увеличении процента кулаков):
Я читал недавно одно руководство, изданное чуть ли не агитпропом ЦК, и другое руководство, изданное, если не ошибаюсь, агитпропом ленинградской организации [т. е. зиновьевцами, «левыми»]. Если поверить этим руководствам, то оказывается, что при царе бедноты было у нас что-то около 60%, а теперь у нас 75%; при царе кулаков было что-то около 5%, а теперь у нас 8 или 12%; при царе середняков было столько-то, а теперь меньше. Я не хочу пускать в ход крепких слов, но нужно сказать, что эти цифры – хуже контрреволюции. Как может человек, думающий по-марксистски, выкинуть такую штуку, да еще напечатать, да еще в руководстве? <…> Как могут болтать такую несусветную чепуху люди, именующие себя марксистами? Это ведь смех один, несчастье, горе.
На сталинском жаргоне точные данные называются утратой научной объективности[91 - О сталинской псевдостатистике см.: Лацис О. Перелом // Вождь. Хозяин. Диктатор. С. 101; Маслов Н. Н. Указ. соч. // История и сталинизм. С. 66–67.] (хотя в повседневной работе он предпочитал, разумеется, реальную статистику, а не диалектические выкрутасы).
Мы верим в то, – добавил он, – что ЦСУ есть цитадель науки <…> Мы считаем, что ЦСУ должно давать объективные данные, свободные от какого-то ни было предвзятого мнения, ибо попытка подогнать цифру под то или иное предвзятое мнение есть преступление уголовного характера.
Напрасно протестовал П. Попов из ЦСУ, взволнованно обвинявший Сталина в клевете на свое учреждение и в фальсификации выводов, – его статьи «Правда» отказалась печатать[92 - См.: Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. С. 312–314.].
В конце 1935 года (период второй пятилетки), призывая комбайнеров усерднее работать ввиду «колоссального роста потребности в зерне», вождь сослался на демографический бум:
Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около трех миллионов душ[93 - Реальные цифры таковы: «Население СССР, например, с осени 1932 по апрель 1933 г. сократилось на 7,7 млн человек, главным образом за счет крестьян» (Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 гг.: Кто виноват? // Судьбы российского крестьянства / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1996. С. 361). См. также: Роговин В. Сталинский неонэп. М., [1995]. С. 41–42.].
А всего через три года, уже после Большого террора, когда перепись катастрофически поредевшего населения была объявлена вредительской, Сталин на XVIII съезде инкриминировал работникам Госплана использование тех же цифр:
Тут же дается аляповатая реализация этой земско-помещичьей идиомы («на вороных»), отождествляющая избирателей с лошадьми, которые сбрасывают всадников:
Мой совет <…> следить за своими депутатами и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч.
В другом случае колористические ассоциации, навеянные тезисом насчет расового равенства граждан СССР, переходят у Сталина в соседний мотив лошадиных мастей и столь же сумбурную дорожно-транспортную метафорику:
Черные и белые, русские и нерусские, люди всех цветов и народностей стоят в одной упряжке и тянут вместе дело управления нашей страной.
Ср. типологически близкие примеры:
Двух зайцев хотели убить в день выстрелов. (Имеется в виду «Кровавое воскресенье».)
Вы умели биться на улицах против царских фараонов.
«Фараоны», т. е. городовые, механически соотнесены с царем, который явно ассоциируется с египетским правителем из Библии. Столь же автоматически «сэр» тянет за собой смежных «джентльменов»:
Из кого состоит эта самая революция? Из «неизменного» Керенского, из представителей кадетов <…> и из одного сэра, стоящего за спиной этих джентльменов.
Ср. также:
Беспартийность чувствует свое бессилие в деле объединения несоединимого и поэтому вздыхает: «Ах, если бы, да кабы во рту росли грибы!»
Вероятно, Сталин принял эту, оборванную им, пословицу за творение какого-то неведомого стихотворца и потому предусмотрительно ее закавычил и разбил на поэтические строки. Продолжение же пословицы – насчет «огорода» – тут же провоцирует его на незатейливое расширение ботанического смыслового ряда:
Но грибы во рту не растут, и беспартийность каждый раз остается на бобах, в чудаках. Человек безголовый, или – точнее – с репой на плечах вместо головы – вот беспартийность.
Сходным образом переплетающееся с тем же набором аграрных ассоциаций слово «растут» влечет за собой «расцветают», употребленное, однако, совсем не по назначению:
На наших глазах растут и расцветают новые люди.
Даже конспиративная фантазия Сталина предпочитает созидать новые формы из подручного, близлежащего материала. Когда во время войны ему от избытка бдительности захотелось замаскировать фамилии своих полководцев, он снабдил их псевдонимами, которые были всецело выстроены на основе их собственных имен. Из отчества Баграмяна – Христофорович – возник Христофоров, а из отчества Жукова – Константинов. Семен Буденный сделался Семеновым, Александр Василевский – Александровым, Климент (Клим) Ворошилов – Климовым[81 - См.: Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 1. С. 290.] и т. п.
Временами моторные ассоциации носят чуть более сложный характер:
Каменевщина периода апреля 1917 года – вот что тянет вас за ноги, т. Покровский.
То есть «каменевщина» пробудила у автора представление о камне, который тянет за ноги утопленника.
Вступая в работу, мы знаем, что путь наш усеян терниями. Достаточно вспомнить «Звезду», перенесшую кучу конфискаций.
Соединение «терний» со «Звездой» подсказано знаменитым «через тернии к звездам», тогда как «куча конфискаций» представляет собой, вероятно, прямое видение газетных кип, конфискованных полицией.
Сопричастность вместо аналогий
За любыми литературными приемами Сталина ощутимы те или иные культурные, ментальные и политические притяжения, взывающие к реконструкции в рамках более широкого контекста. Забегая вперед, следует уточнить, что речь идет о некоторых специфических приметах, разделяющих раннебольшевистский и меньшевистский дискурс и обусловленных базисными особенностями обоих движений. Оплодотворенный семинарией жречески-наставительный слог Сталина мог так впечатляюще разрастись лишь на пажитях раннего большевизма, обладавшего полнотой истины (имеется в виду, конечно, ленинский, а не богдановский извод этой идеологии). При всей своей догматической зачарованности, меньшевизм отличался от него все же большей внутренней свободой, сопряженной с организационной нестабильностью, центробежностью и автономизмом; кроме того, смягчению суровых марксистских нравов несколько способствовала и меньшевистская теоретическая установка на сближение с «либеральной буржуазией». Большевистскому волевому централизму, прагматике и дисциплине (соединявшимся с разжиганием массовых стихийно-разрушительных импульсов) здесь отвечал скорее морально-идеологический консенсус, рассудочный диктат старой доктрины. Само собой, мы тут по необходимости упрощаем живую реальность – эмоциональную, текучую и хаотическую, подверженную влиянию случайных факторов; но ясно, что регулятивные принципы или главенствующие тенденции соперничающих группировок не могли не сказаться на культурном самосознании их сторонников.
Как известно, меньшевизм, сохраняя верность статической модели марксизма, подбирал для всякого данного этапа предуказанного социального развития ближайшее соответствие на исторической шкале[82 - «Меньшевики гораздо больше своих конкурентов-большевиков следовали букве марксизма, стараясь действовать в строгом соответствии с линией поведения Маркса и Энгельса в 1848 году, поскольку ситуация в Европе в середине XIX века, по их мнению, больше всего напоминала ситуацию в России в начале 900?х годов. В большом ходу в меньшевистской публицистике (А. С. Мартынов [Пиккер] и др.) были также аналогии с эпохой Великой французской революции конца XVIII в.» (Тетюкин С. В. Меньшевизм как идейно-политический феномен // Меньшевики: Документы и материалы 1903–1917 гг. М., 1996. С. 14).]. Традиция пришла с Запада, но обилие евреев среди меньшевиков и впрямь придавало раввинистический привкус этой методе, в которой проглядывало нечто от талмудической экзегезы с ее сопоставительной синхронизацией разновременных явлений и приемом расширительных аналогий («каль ва-хомер»). Конечно, у большевиков, включая Ленина, тоже мелькали все эти сравнения современных российских событий с Великой французской революцией, 1848 годом, Парижской коммуной и т. п. (уже в 1920?е годы такие параллели – преимущественно между сталинским режимом и «термидором» – возлюбил Троцкий), но эксплуатировались они все же гораздо реже и почти исключительно в ритуальных или полемических целях. Мало затронула большевизм и древнехристианская традиция аллегорического «прообразования». Сама эта манера была принципиально чужда ленинскому направлению, упорно претендовавшему на живую, диалектическую динамику, открытость и злободневность. Так, говоря о своем режиме, Ленин называет его прямым «продолжением», а вовсе не аналогом Парижской коммуны. Соответственно, и Сталин объявляет последнюю не прообразом, а «зародышем» советской власти. Видимо, это была действительно общая черта большевистской поэтики, присущая и тем, кто, как А. Богданов, призывал «освободить большевизм от ленинизма». Скажем, в программно-«впередовской» статье «Социализм в настоящем» (конец 1910 года) он пишет, что пролетарская организованность и сотрудничество – «не прообраз социализма, а его истинное начало»[83 - Неизвестный Богданов: В 3 кн. М., 1995. Кн. 2. С. 92.]. Бухарин в 1922 году высмеивает свойственный «социал-демократическим талмудистам» прием «аналогий и исторических параллелей», «крайне рискованных» и даже «бессмысленных» («Буржуазная революция и революция пролетарская»)[84 - Бухарин Н. И. Путь к социализму в России // Избр. произведения. New York, 1967. С. 157–159, 162.].
Привычно подражая в определениях «лучшему теоретику», Сталин вполне искренне солидаризуется с его подходом. К мишуре интеллигентских сравнений он относится с открытым презрением, поддержанным сочетанием невежества, патриотизма и здоровой житейской эмпирики: «Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных условий», – в 1925 году говорит он немецкому коммунисту Герцогу. «Меньшевистскую группу» в марксизме Сталин порицает именно за то, что «указания и директивы черпает она не из анализа живой действительности, а из аналогий и исторических параллелей», – и за ту же манеру бранит Троцкого (бывшего меньшевика), увлеченного «детской игрой в сравнения».
В конце 1931 года, отвечая на вопрос Эмиля Людвига о своем предполагаемом сходстве с Петром Великим, Сталин слово в слово повторил формулы не упомянутого им Бухарина: «Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна»[85 - Очень редко и преимущественно в полемических видах он, правда, и сам использует параллели (например, между китайской и Октябрьской революциями), подбирая для них примитивное методологическое обоснование. Так, дискутируя с Зиновьевым, по большевистской традиции осудившим этот метод, он заявил: «Было бы глупо утверждать, что нельзя вообще брать аналогий <…> Разве революция одной страны не учится у революций других стран, если даже эти революции являются неоднотипными? К чему же сводится тогда наука о революции?» Следует дежурная апелляция к Ленину, который, по счастью, в одной своей статье, оказывается, «широко пользовался аналогией из французской революции 1848 года при характеристике ошибок тех или иных явлений перед Октябрем».]. Сопоставлению он обычно предпочитает уже знакомый нам принцип смежности или причастности: «Я только ученик Ленина, и цель моей жизни – быть достойным его учеником <…> Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин – целый океан». Капля и океан – часть и целое: сравнение заменено как прямой преемственностью («ученик»), так и включением в общность.
Смена тропов далеко не безобидна. Ср. ее грозные возможности, приоткрывающиеся, например, в поздней брошюре Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», где разбор «ошибок т. Ярошенко» строится в двух планах – отрицательном (это не Маркс и не Ленин) и положительном (к кому же они тогда восходят?). Проследим последовательность его ходов, развернутых на протяжении нескольких страниц; для наглядности я использую отдельное издание 1952 года:
а) Вместо марксистской Политической экономии у т. Ярошенко получается что-то вроде [аналогия] «Всеобщей организационной науки» Богданова (С. 64);
б) Следует отбросить не ленинскую формулу, являющуюся единственно правильной, а так называемую формулу т. Ярошенко, явно надуманную и немарксистскую, взятую из богдановского арсенала [причастность] «Всеобщей организационной науки» (С. 66);
в) Поступать так, «как это делает т. Ярошенко, – значит подменить марксизм богдановщиной» [прямое отождествление с врагом] (С. 70).
Но Сталину нужен гораздо более демонизированный противник, чем полузабытый Богданов, – и он без труда его находит:
а) У него [Ярошенко] получается… что-то вроде бухаринской [аналогия] «общественно-организационной техники» (С. 64);
б) В этом вопросе т. Ярошенко перекликается с Бухариным [контакт, т. е. общность] (С. 71);
в) На самом деле он делает то, что проповедовал Бухарин и против чего выступал Ленин. Тов. Ярошенко плетется по стопам Бухарина [непосредственное отождествление и причастность] (С. 72).
Справедливости ради надо сказать, что приоритет в использовании подобных приемов принадлежит все же Ленину, о чем можно судить хотя бы на материале «Материализма и эмпириокритицизма». У Сталина такие ходы могут носить принципиально безличный характер, как происходит, допустим, в его докладе на XVII съезде (1934): «Эта путаница в головах и эти настроения, как две капли воды, похожи на известные взгляды правых уклонистов». Затем от сходства «двух капель» дается переход к их прямому слиянию; точнее, аналогия подменяется гомогенностью, идеей прорастания (ср. «зародыш») и губительного укрупнения уцелевшей части: «Как видите, остатки идеологии разбитых антиленинских групп вполне способны к оживлению». Инквизиторская отмычка действует безотказно: «Случайно ли это совпадение взглядов? Нет, не случайно…»
Несколько иную версию ступенчатой схемы Сталин использовал в 1940 году, когда гнобил А. Авдеенко. Динамика такова: 1) «Весь грех Авдеенко состоит в том, что нашего брата – большевика – он оставляет в тени, и для него у Авдеенко не хватает красок»; 2) «Он так хорошо присмотрелся к врагам, познакомился с ними до того хорошо, что может изобразить даже с точки зрения отрицательной и с положительной»; 3) «Я бы хотел ошибиться, но, по-моему, едва ли он сочувствует большевикам»; 4) «Я думаю, что он человек вражеского охвостья <…> и он с врагами перекликается»[86 - Сталин И. Соч. Тверь. Т. 18. С. 203–204.]. Главное – приобщить жертву к врагам, агентами которых и предстают все эти Богдановы, Бухарины, как и примкнувшие к ним Ярошенко или Авдеенко.
Мы соприкасаемся здесь с универсальным качеством сталинской риторической технологии: несмотря на свою дань революционной метафорике, подлинное первенство она отдает метонимии и синекдохе, роднящим ее одновременно и с архаикой, и, естественно, с авангардом (к которому так настойчиво прикрепляет Сталина Борис Гройс[87 - Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993.]). В позитивном аспекте эта – по сути, чисто пространственная – поэтика эстетически соответствовала организационной модели большевизма, исходно строившегося – по крайней мере, в теории – как унифицированная структура однородных расходящихся ячеек, управляемых из общего центра[88 - Комментируя программную ленинскую брошюру «Что делать?», Такер говорит, что Ленин хотел создать партию, «чье влияние будет распространяться концентрическими кругами от ядра», состоящего из вождей (Указ. соч. С. 41).]. (И под ту же модель со временем подстраивался образ идеологического противника – только он представительствовал от другой, враждебной совокупности.) Сам этот центр официально призван был замещать «партию в целом», подавляя от ее имени любые претензии на качественные отличия и самобытность. По определению Ленина в «Шаг вперед, два шага назад», такая система обуславливалась неукоснительным подчинением «части целому», готовностью «пожертвовать всей и всякой групповой особностью и групповой самостоятельностью в пользу великого, впервые на деле создаваемого нами, целого: партии»; так налаживалась «единая партийная связь всех социал-демократов России», «материальное единство организации» – в противовес идейной, т. е. субъективной и расплывчатой, «интеллигентской» доминанте, выдвигавшейся меньшевиками.
Легко разглядеть, конечно, кровную связь между этой декларативной ориентацией на принципиальную гомогенность движения и марксистско-плехановским пафосом безличных масс, растворяющих или приобщающих к себе индивида. Марксизм дружески аукался с традиционной имперсональностью и «соборностью» отечественной религиозной традиции, перелицованной на пролетарский и пролеткультовский лад. «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени класс», – писал уже в советское время бывший сверхиндивидуалист Маяковский, вторя заветам агитпропа. И когда Сталин лицемерно рассуждает о «капле» и «океане», он просто переиначивает траурное обращение ЦК после смерти Ленина: «Каждый член нашей партии есть частичка Ленина»[89 - Цит. по: К годовщине смерти В. И. Ленина. 1924 – 21 января – 1925: Сб. статей, воспоминаний и документов. Л.; М., 1925. С. 20.].
Безусловно, сталинская пропаганда вовсю разрабатывала именно «исторические параллели»: Александр Невский, Иван Грозный и Петр Первый как бы «прообразовывали» вождя. Но тут необходимо учитывать установочное расхождение между официально-экстатическим сталинским культом и его «авторским образом», канонизированным в речах и писаниях[90 - Ср.: «Не стоит полностью отождествлять официальную культурную политику тех лет с личностью ее главного творца. Он позволял себе, в определенных пределах, и не считаться с нею, отходить от нее» (Громов Е. Указ. соч. С. 6).]. Индивидуальная стилистика Сталина по большей части манифестирует умышленный разрыв с этой выспренней пропагандой, опирающейся на громоздкие исторические прецеденты, создавая вождю алиби за счет его большевистской «скромности», деловитости и реализма. Он выступает как часть, адекватно представляющая целое, как безлично-аскетическое воплощение партийной веры, воли – и несокрушимой марксистской «логики». Рассмотрим ее подробнее, начав, так сказать, с математических представлений Сталина.
Процент истины
Марксистская политэкономия и большевистский коллективизм, вечный примат класса, массы над ничтожной «частицей» стимулировали цифровой подход к реальности, который уже в сталинские (и послесталинские) времена трансформировался в статистическую манию режима, вечно озабоченного подсчетами своих военных, экономических и прочих достижений. С неменьшим усердием режим занимался, однако, их агитационной фальсификацией. И конечно, непревзойденным мастером или изобретателем подобных ухищрений и подтасовок был Сталин.
Цифры, как и сама жизнь, должны соответствовать его теоретическим прозрениям – а не наоборот. Выступая на XV съезде (декабрь 1925 года), он свирепо обрушился на крайне неприятные ему статистические данные по социальной дифференциации крестьянства в советское время (до «великого перелома» еще далеко, и Сталин, придерживающийся «правой» ориентации, пока вовсе не заинтересован в увеличении процента кулаков):
Я читал недавно одно руководство, изданное чуть ли не агитпропом ЦК, и другое руководство, изданное, если не ошибаюсь, агитпропом ленинградской организации [т. е. зиновьевцами, «левыми»]. Если поверить этим руководствам, то оказывается, что при царе бедноты было у нас что-то около 60%, а теперь у нас 75%; при царе кулаков было что-то около 5%, а теперь у нас 8 или 12%; при царе середняков было столько-то, а теперь меньше. Я не хочу пускать в ход крепких слов, но нужно сказать, что эти цифры – хуже контрреволюции. Как может человек, думающий по-марксистски, выкинуть такую штуку, да еще напечатать, да еще в руководстве? <…> Как могут болтать такую несусветную чепуху люди, именующие себя марксистами? Это ведь смех один, несчастье, горе.
На сталинском жаргоне точные данные называются утратой научной объективности[91 - О сталинской псевдостатистике см.: Лацис О. Перелом // Вождь. Хозяин. Диктатор. С. 101; Маслов Н. Н. Указ. соч. // История и сталинизм. С. 66–67.] (хотя в повседневной работе он предпочитал, разумеется, реальную статистику, а не диалектические выкрутасы).
Мы верим в то, – добавил он, – что ЦСУ есть цитадель науки <…> Мы считаем, что ЦСУ должно давать объективные данные, свободные от какого-то ни было предвзятого мнения, ибо попытка подогнать цифру под то или иное предвзятое мнение есть преступление уголовного характера.
Напрасно протестовал П. Попов из ЦСУ, взволнованно обвинявший Сталина в клевете на свое учреждение и в фальсификации выводов, – его статьи «Правда» отказалась печатать[92 - См.: Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. С. 312–314.].
В конце 1935 года (период второй пятилетки), призывая комбайнеров усерднее работать ввиду «колоссального роста потребности в зерне», вождь сослался на демографический бум:
Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около трех миллионов душ[93 - Реальные цифры таковы: «Население СССР, например, с осени 1932 по апрель 1933 г. сократилось на 7,7 млн человек, главным образом за счет крестьян» (Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 гг.: Кто виноват? // Судьбы российского крестьянства / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1996. С. 361). См. также: Роговин В. Сталинский неонэп. М., [1995]. С. 41–42.].
А всего через три года, уже после Большого террора, когда перепись катастрофически поредевшего населения была объявлена вредительской, Сталин на XVIII съезде инкриминировал работникам Госплана использование тех же цифр: