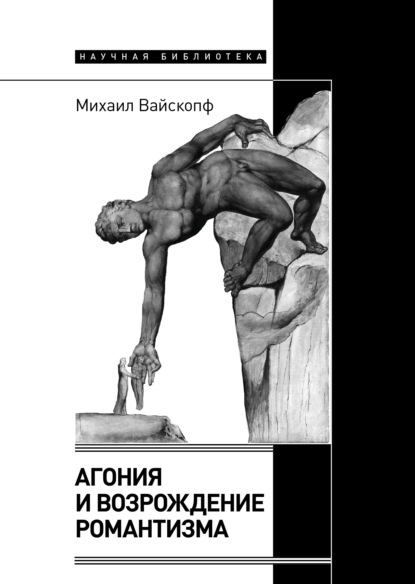По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Агония и возрождение романтизма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Красочный глухой «закоулок», тоже увенчанный меловой горой, обрисован был и в 1839 году в указанном «Медальоне» Е. Ган[92 - Ган Е. А. Медальон // Полн. собр. соч. Е. А. Ган (Зенеиды Р-вой). СПб.: Н. Ф. Мертц, 1905. С. 259.]. В таком «закоулке» обитает юная генеральская дочь Олимпия Бобрина, которая чертами характера предвосхищает при этом генеральскую дочь Улиньку Бетрищеву, запечатленную в том же втором томе «Мертвых душ». Подобно своей гоголевской преемнице, чувствительная, добрая, пылкая и отзывчивая Олимпия реагирует на все спонтанно: «Ни одна мысль ее не мелькала, не отражаясь в них (в ее чертах), как в зеркале <…> страдая за других, она забывала себя»[93 - Там же. С. 262. О других прототипах Улиньки – у Греча и Марлинского – см.: Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. Изд. 2-е. М.: РГГУ, 2002. С. 625–626.].
Что касается происхождения других гоголевских типажей, то здесь примечателен, в частности, один из предшественников полковника Кошкарева, бюрократа и прожектера. Это доверчивый и бестолковый полковник Линский из повести Николая Андреева «Ликарион» (1838), который увлекся теориями прусского агронома Альбрехта Тэера, непригодными для отечественных условий, и оттого погубил все свое имение. В Линском предсказаны были, вместе с тем, и специфические черты Манилова. Полковник застроил свой английский сад «храмами, киосками, гротами, мостиками, ротондами, павильонами», то есть всем тем, о чем только мечтал гоголевский персонаж[94 - Андреев Н. Ф. Повесть и рассказ // (Соч.) Николая Андреева. М.: тип. А. Евреинова, 1838. С. 139–170.]. Вероятно, нет необходимости напоминать читателям о соответствующих фрагментах гоголевского текста.
Уместно будет закончить эти заметки ссылкой на чрезвычайно выразительный пример преемственности «Мертвых душ» от устоявшейся патриотической традиции. «Птица тройка» с ее стремительной русской ездой, восславленной в концовке поэмы, при всем феерическом блеске гоголевского нарратива была все же общим местом, на что мне тоже и довольно подробно уже случалось указывать в своей монографии[95 - Вайскопф М. Сюжет Гоголя… С. 567–574.]. Приведенный там набор источников и параллелей я хотел бы теперь несколько расширить. Сам портрет забубенного русского ямщика, противопоставленного чинному вознице «в немецких ботфортах», контрастно ассоциируется с «Шуткой» Вяземского (1841):
Словно чопорный германец
При ботфортах и косе,
Неуклюжий дилижанец
По немецкому шоссе[96 - Вяземский П. А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 259.].
В повести 1835 года «Письма из Дерпта», подписанной буквами А. в. м. л., стремительная русская езда противопоставляется медленной чухонской и немецкой:
Наша русская езда – любо, что за езда! Это поэма!.. Ямщик вскочил на козлы, и все жилки в нем заговорили <…> А этот колокольчик-ревун <…> а эти борзые кони, понимающие малейшее движение шапки, рукавицы своего хозяина, бегущие однообразною, как грусть, рысью, когда он поет грустную песню, – и с места марш-марш, когда он вдруг грянет плясовую! <…> Ясно, что на святой Руси, по ее обширности, по отдаленности городов одного от другого, более, чем в каком-либо государстве долженствовала развиться поэзия езды. Русский нетерпелив; ему бы тяп да ляп: да и состроился корабль[97 - Ср. бричку у Гоголя: «…наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик».]; вот начало скорости езды в России <…> Дорожный русский сосредоточивает свои мысли и чувствования в теме песни;
Взгляни на русского извозчика <…> вся душа его перешла в звуки песни, которую он поет…
Да! Скажем с восторгом: сильна, могуча Русь! Богатырская кровь течет в жилах сынов ее[98 - Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1835. № 18. С. 138–139.].
Думаю, приведенными примерами можно вполне ограничиться, чтобы показать небесполезность такого рода текстологических разысканий и пригласить к ним уважаемых коллег-гоголеведов. На этом поприще еще предстоит немало работы.
2005, 2019
«Мрачные образа»
Об одном источнике двух повестей гОголя – «Портрет» и «Вий»
Между «Вием» и «Портретом», впервые напечатанными почти одновременно[99 - Ценный историко-литературный анализ этих текстов дан в новых академических изданиях; развернутый комментарий к «Портрету» см. там же: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 3. М.: Наука, ИМЛИ РАН, 2009. С. 594 и сл. (С. Г. Бочаров и Л. В. Дерюгина); Гоголь Н. В. Миргород. СПб.: Наука, 2013. С. 475–483 (сост. и комм. В. Д. Денисов); к «Вию»: Гоголь Н. В. Арабески. СПб.: Наука, 2009. С. 393–400 (сост. и комм. В. Д. Денисов).], имеется самоочевидное сюжетное сходство, удержанное, с теми или иными вариациями, в последующих изданиях обеих повестей. В предлагаемом разборе я абстрагируюсь от этой их эволюции, не слишком существенной для заявленной темы, а равно и от многих нерелевантных сторон их сложного и противоречивого идеологического генезиса. При любом раскладе эти тексты сближает культурная универсалия, прочно усвоенная романтизмом: смертоносные силы воплощаются в самом мертвеце[100 - На пушкинском материале эта тема освещалась в моей очень ранней (1983) работе «Вещий Олег и Медный всадник» (Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2003).].
В «Портрете» художника убивает изображение умершего ростовщика, пробудившего в нем греховные страсти; «философа» в «Вие» – погибшая панночка и соприродные ей подземные духи. Куда интересней, что в обоих случаях демонический губитель замещает собой сакрального персонажа, с которым сохраняет тем не менее отчетливое родство. В своей давней книге о Гоголе я уже приводил весьма подробные аналогии, с одной стороны, между антихристом-ростовщиком и святым старцем – отцом художника из «Портрета»; а с другой – между Вием и Богом-Отцом (еще один сюжетный заместитель Всевышнего – отец панночки, спор которого с Хомой представляет собой аллюзию на диалог Бога с Моисеем из Исх. 3 и 4)[101 - Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. Изд. 2-е. М.: РГГУ, 2002. С. 209, 218–220; 484–485.]. Но и лежащая в гробу красавица-ведьма, плачущая в церкви кровавыми слезами, напоминает о сакральных прецедентах – от кровавого пота в Молении о чаше (Лк. 22: 44) до слезоточивых икон. Симптоматичен, естественно, и соответствующий локус «Вия» (позаимствованный, как известно, из баллады Р. Саути) – церковь с ее мрачными образами, ставшая вместилищем бесов. В религиозно-генетическом плане перечисленные схождения указывают прежде всего на зависимость писателя от так называемого языческого синкретизма, по большей части еще не знавшего жесткой дихотомии небесных и инфернальных начал, свойственной христианскому вероучению, – оттого, собственно, они с такой неимоверной легкостью перетекают у Гоголя друг в друга, пугая героев и самого рассказчика.
Ощущение этого праединства, часто вступавшее у автора в конфликт с новозаветным дуализмом, также было не его персональной особенностью, а достоянием мощной традиции. Смешение сакрального и демонического вечно угнетало или тревожило бесчисленных духовидцев, которые приписывали свои страхи козням дьявола. По сути дела, в гоголевских повестях мы сталкиваемся с фамильной приметой всей романтической школы, истово тянувшейся к этой архаике. Достаточно напомнить, что готический и романтический сюжет об оживающем бесовском изображении, использованный в «Портрете», представляет собой инверсию старых церковных преданий о чудотворных иконах[102 - См. в комментарии В. Д. Денисова к «Портрету» (ссылка на работу В. Кошмаля): Гоголь Н. В. Арабески. С. 299.]. Но ведь и эти истории, в свою очередь, восходят к античным повествованиям о чудотворных статуях – к легендам, заново востребованным романтизмом, который с готовностью придавал им демонологическое звучание. Подобные нарративы, подернутые балладным колоритом, при случае легко вбирали в себя и мотив движущегося трупа, изофункционального губительному изображению.
Демонизация, однако, нередко вытеснялась обратным процессом, ибо обожествление эротического объекта, присущее романтической поэтике в целом, тоже находило адекватное выражение в рассказах об оживающих картинах или статуях. В русской прозе догоголевской и гоголевской поры покойная жена либо возлюбленная героя, запечатленная в ее портрете, бюсте и т. п., зачастую выступала в амплуа Пречистой Девы[103 - Подробнее об этом см.: Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 626–639.]. Религиозное сознание тем не менее продолжало двоиться, граница между святым и бесовским оставалась размытой. Мадонна всегда могла обернуться ведьмой, а ведьма – Мадонной. Проблема не имела решения, но его суррогаты предлагал уклончиво иронический бидермайер, уже расплодившийся в русской культуре[104 - См.: Nemoianu V. The Taming of Romanticism: European Literature and the Age of Biedermeier. Harvard UP, 1984. P. 137 ff.].
С этим изводом немецкого романтизма тесно соприкасался и Гоголь. Чрезвычайно важным общим импульсом для его «Портрета» и «Вия» послужила, несомненно, повесть Павла Сумарокова «Белое привидение, или Невольное суеверие», изданная в начале 1831 года[105 - Денница. Альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. Последующие цитаты отсюда даются без дополнительных уточнений.]. Видимо, она стала, кроме того, посредующим звеном между балладой Саути и «Вием», опубликованным через четыре года после «Привидения».
У П. Сумарокова прослеживается, в частности, четкая ассоциативная связь между показом страшной мертвой подруги и такой же страшной Богородицы; но все смягчено у него обстановкой уютной бидермайеровской говорильни, которая сводит любые ужасы к курьезному недоразумению. Бидермайеровский разговорный фон широко представлен и в «Вие» (беседы на кухне и пр.), но все же он только оттеняет трагический разворот сюжета. У П. Сумарокова основное движение текста предваряется эпизодами, нагнетающими атмосферу таинственности. Затем на деревенской вечеринке завязывается беседа о духах и привидениях: по словам хозяина, покойный друг являлся ему в облике белого привидения. Один из гостей, учитель, вспоминает, в свою очередь, как у сельского пономаря «умерла жена, женщина довольно еще молодая и притом любимая им до чрезвычайности». Ночью в церкви вдовец
сам читал псалтырь по покойнице, попеременно с дьячком <…> но перед светом дьячку понадобилось зачем-то сходить домой, и пономарь остался в церкви один <…> Он продолжал свое чтение тихим и протяжным голосом <…> Вдруг послышался легкий шорох. Церковь была слабо освещена: одна маленькая свечка горела перед образом, стоящим в головах мертвой, другая в руке у пономаря. В страхе взглянул он на покойницу, и ему показалось, что покров ее шевелится… однако через минуту шорох затих <…> Снова принялся он за чтение, как опять тот же шорох послышался гораздо явственнее, образ, стоявший в головах мертвой, с громом полетел на пол и свеча, горевшая перед ним, погасла.
Думаю, каждый, кто помнит гоголевскую повесть, с ходу опознает здесь сцены и обстановку той ночной церкви, в «мертвой тишине» которой трепещущий от страха Хома Брут будет читать молитвы по умершей, – вплоть до икон, попадавших наземь. Ср., однако, далее у Сумарокова: испуганный пономарь,
увидев за собою что-то белое <…> опрометью бросился с клироса. Но в то же самое время, когда он поравнялся с одром, на котором стоял гроб, почувствовал, что кто-то удерживает (его) за полу кафтана. Оледенев от ужаса, пономарь употребляет все силы, стараясь вырваться из невидимых рук <…> За ним, в ту же минуту, раздался страшный стук и шум, как будто что-то валилось и обрушивалось.
Выскочив наружу, очумелый вдовец стал бить в набат, созывая народ, – и «люди, вошедши в церковь, увидели, что гроб был опрокинут, а покойница лежала на полу, только холодная, неподвижная, не показывая ни малейшего признака жизни». Происшествие так и осталось загадкой – хотя, как это принято в поэтике бидермайера, тут же подыскиваются самые прозаические (но все же заведомо сомнительные) объяснения: образ и свечу опрокинула кошка, пономаря напугала сова и пр. «Верного никто не знал, а между тем пономарь клялся и божился, что видел точно жену свою, вставшую из гроба, даже чувствовал, как она схватила его холодными, костлявыми руками».
Знаменательна, однако, дальнейшая связь грозной жены, встающей из гроба, подобно гоголевской панночке, с иконой Богоматери. В «Вие» эта богородичная ассоциация уже будет осторожно приглушена: просто «лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно»; «мрачные образа глядели угрюмей». Между тем в «Белом привидении» та же «мрачность» реализована была в самом сюжете.
Разговор, описанный у Сумарокова, происходит «накануне праздника Покрова Богородицы. В гостиной стоял большой фамильный образ Богоматери, и перед ним горела лампада (хозяин следовал еще обычаям предков своих)». После вечеринки главный повествователь, возбужденный услышанными историями и страдая от сильного холода, долго не может заснуть.
Образ Богоматери, написанный старинным иконным письмом, стоял прямо напротив меня, и глаза мои невольно на него устремились. Краски лика, потемневшие от времени, почти колоссальный размер его и черты несколько грубые – все это придавало иконе какой-то величественный и вместе грозный вид.
Само это соединение «фамильного» лика и мотива «предков» со «старинным письмом» переключает рассказ в готический регистр, который и здесь подкреплен обязательным упоминанием о страшных глазах образа (пусть даже православного): «Глаза ее, довольно живо сделанные, казалось, смотрели на меня и как будто встречались с моими взорами», – но тут сумароковские сцены упреждают заодно и гоголевский «Портрет». «При глубокой тишине, царствующей во всем доме, в котором как будто не было ни одного живого существа, при взгляде на мрачный лик иконы, озаренный слабым светом», героя-рассказчика охватывает тревога, и скепсис его улетучивается. Он задумывается над таинственностью мира. «При этой мысли какое-то непостижимое чувство заставило меня бросить взгляд на то место, где все представлялся хозяину умерший друг его и где слуга тоже видел призрак». Догорающая лампада лишь изредка озаряла образ «и минутным, мелькающим отблеском как бы придавала глазам его живость и движение» (ср. столь же магический лунный свет в «Портрете»). Наконец рассказчик засыпает.
И тогда вдруг показалось мне, что я открываю глаза, вижу себя в церкви, ярко освещенной, и лежу в гробе посредине ее. Священник и дьякон, со свечами в руках, пели надо мною погребальные гимны. Голоса их, которые слышались мне, были неясны и страшны <…> В церкви сделалось темно; одна маленькая свечка оставалась на иконостасе перед местным образом Богоматери, и этот образ был тот самый, на который смотрел я с вечера. Только черты лика казались еще величественнее; они беспрестанно изменялись, оживали, икона начала трогаться и отделяться от иконостаса. Тут опять послышалось пение; страшные лица в священнических одеждах показались со всех сторон и стали приближаться ко мне вместе с иконою, которая грозно указывала на меня. Все то же оцепенение удерживало меня в гробе; крики замирали в груди моей… Наконец, голоса поющих слились в ужасный, пронзительный вопль… Волосы мои встали дыбом; с лица капал холодный пот.
От ужаса герой просыпается, но страхи его пока не проходят: в бледном сиянии месяца ему мерещится в углу белое привидение – именно то, о котором говорил хозяин. Наконец все приходит в должный вид, мнимое «привидение» разъясняется простым стечением обстоятельств, а сама история о нем поставлена под сомнение.
Тем не менее оживающая икона Богоматери, надвигающаяся на героя, в сумароковской новелле заняла, как видим, то самое место, которое у Гоголя будет отведено в одной повести портрету антихриста, а в другой – мертвой ведьме и Вию. При этом свирепый клир замещает нечистых духов, которые беснуются в церкви, а образ Богоматери «указывает» священникам на жертву точно так же, как Вий своим подручным – на Хому.
Некоторые совпадения с П. Сумароковым видны у Гоголя и в деталях. Можно счесть случайностью тождество между репликой из «Привидения» – «В природе, право, есть вещи непостижимые» – и столь же избитой максимой Чичикова: «В натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума»; впрочем, с таким же успехом последний мог позаимствовать это заключение из книги Эккартсгаузена, неспроста помянутой в гоголевской поэме: «Есть в Натуре чудные явления, непостижимые для существ, организованных, как мы»[106 - См. Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры // Сочинения Эккартсгаузена. Ч. 2. СПб.: тип. Шнора, 1804. С. 139.]. Зато именно с «Вием» сходится такая важная символическая подробность, как бестиальный аккомпанемент действия. У Сумарокова герой объясняет приснившиеся ему страшные вопли священников тем, что в ночи «раздавался вой собак, запертых внутри дома, которые <…> затягивали песню свою целою стаею». Ср. в «Вие»: «Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаею. И самый лай собачий был как-то страшен».
Отказавшись от покладисто-иронических компромиссов, которыми привык довольствоваться бидермайер, Гоголь вернул сюжет о потусторонних силах к его глубинным истокам, «неизъяснимым» для дуалистического сознания.
2014, 2019
Мнимый Гоголь в роли ревизора
Как литературные прецеденты, так и возможные бытовые источники «Ревизора» достаточно изучены. Подытоживая их список, Ю. В. Манн в своем комментарии к академическому изданию пьесы добавляет к ним еще две истории. Первая – это навеянная премьерой «Ревизора» реплика П. Серебреного: «Один степной помещик сказывал нам, что в их именно городке случилось точь-в-точь такое происшествие…»[107 - Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. Т. 4. М.: Наука; ИМЛИ РАН, 2003. С. 633–639.]. Куда занимательнее выглядит другой приведенный им сюжет – тот, что рассказан у В. И. Шенрока со ссылкой на А. С. Данилевского. Речь идет о том, как в августе 1835 года Гоголь вместе с ним и И. Г. Пащенко (своим младшим соучеником по Нежинской гимназии) путешествовал из Киева в Москву:
Здесь была разыграна оригинальная репетиция «Ревизора», которым Гоголь был тогда усиленно занят. Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенка выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки <…> Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой, тогда как в другие раза им нередко приходилось по несколько часов дожидаться лошадей[108 - Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя // (Соч.) В. И. Шенрока: В 4 т. Т. 1. М.: тип. А. И. Мамонтова и К°, 1892–1897. С. 364.].
Не исключено, что именно эта дорожная мистификация спустя несколько лет отозвалась в знаменательном сочинении на темы «Ревизора». В начале 1841 года в петербургском журнале «Пантеон русского и всех европейских театров» появилась повесть Н. Ковалевского «Гоголь в Малороссии» с подзаголовком «Уездная быль»[109 - Ковалевский Н. Гоголь в Малороссии. Уездная быль // Пантеон русского и всех европейских театров. 1841. Ч. 1. № 1. Отд. 2. С. 16–29. Ниже ссылки на это издание даются в самом тексте с указанием страницы в скобках. Кто такой Н. Ковалевский, установить мне не удалось. В справочных изданиях, релевантных для описываемого периода, писателя с этим именем нет. Отсутствует и такой псевдоним.]. В стилистическом плане она была совершенно открыто ориентирована на «малороссийского» Гоголя – на его пародийно-пафосные интонации, которые были приспособлены здесь к сентиментально-ироническим установкам нарождающейся натуральной школы. С первых же строк демонстративно используется помпезно-комическая риторика «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Как жаль, что я не художник! Какой верной, отчетливой кистью изобразил бы я задумчивые лица двух знакомых мне путешественников»[110 - Ср. у Гоголя: «О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил…»] и т. д. (С. 16). Путешественников этих двое, и зовут их тоже вполне по-гоголевски: Федор Блюдечко и Евгений Ситечко. Это молодые и образованные чиновники, служащие в канцелярии полтавского гражданского губернатора. Едут они в Ромны, где Ситечку ожидает невеста, по которой он истосковался. Но на почтовой станции нет лошадей, и путники изнывают в многочасовом ожидании. Негодующий на задержку Ситечко импульсивен, вспыльчив, чернобров и (что естественно для публикации в театральном журнале) походит на актера, исполняющего роль Гамлета. Совсем иначе выглядит его друг Блюдечко – «юноша лет двадцати двух, стройный, бледнолицый, в стальных очках». Он предается воспоминаниям о «хорошенькой незнакомке» – юной девушке, с которой недавно танцевал на каком-то вечере. Наконец, отчаявшихся путников осеняет счастливая мысль – раздобыть лошадей на ближнем хуторе. Друзья узнают, что принадлежит он местному судье – помещику по фамилии Гнида и его жене Гнидихе. Затевая мистификацию, Блюдечко возлагает надежды на «натуру своих земляков», – и, как мы вскоре увидим, его расчеты оправдываются.
Если зачин «были» стилизован под повесть о двух Иванах, то обстановка хутора и повадки его обитателей столь же отчетливо нацелены на идиллические сцены «Старосветских помещиков», включая сюда гастрономическую доминанту уездного быта, согретого добродушием и взаимной привязанностью. Сам распорядок их жизни тоже по-гоголевски подан как монотонная череда стереотипных действий.
Онуфрий Лукич до сих пор еще почти влюблен в Степаниду Петровну <…> Угодно ли вам знать, как они проводят время в своей деревушке? Вот послушайте! Поутру Онуфрий Лукич, в тулупе и колпаке, входит в спальню Степаниды Петровны, которая, уже помолившись Богу, сидит за чайным столиком. «Доброго утра желаю вам, Степанида Петровна!» говорит Онуфрий Лукич и целует руку жены своей. «И вам того же!» отвечает Степанида Петровна – и взамен целует руку своего мужа. Потом они пьют чай с густыми сливками и бубликами, усыпанными маком. Здесь у них обыкновенно происходит маленький спор: Онуфрий Лукич охотник до пенок. Степанида Петровна, зная это, собирает в ложку всю пенку сливок и кладет их в стакан своего мужа. «Вот уж этого я не люблю!» говорит Онуфрий Лукич: зачем же вы себе не оставили ни крошки? Ну, какой такой смак в сливках без пенки? Подвиньте ко мне вашу чашку, поделимся!»
– Та вкушайте! вкушайте! – отвечает Степанида Петровна: – ведь это ваше лакомство!
– Нате-бо, возьмите хоть половину!
– Та вкушайте сами! – говорит Степанида Петровна и никак не соглашается подставить свою чашку. Онуфрий Лукич поневоле должен скушать один свою любимую пенку.
После чаю они занимаются хозяйством (С. 21).
Из «Старосветских помещиков» перенесены сюда даже «деревянные стулья с высокими деревянными же спинками <…> Таких стульев вы не увидите нигде, кроме Малороссии» (С. 20)[111 - Ср. интерьер гоголевских помещиков: «Стулья в комнате были деревянные <…> с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лаку и краски».]. Тем же этнографическим колоритом насыщен весь дом, включая «огромную картину, изображающую малороссийского Гетмана» с чубом, бандурой и саблей. Прислуга разгуливает босиком, хозяйские сыновья с аппетитом едят вареники, «обмакивая их в густую сметану», а отец обожает родные малороссийские песни. Национальный консенсус нарушает только очаровательная хозяйская дочь, шестнадцатилетняя Феодосия, а по-домашнему Феся, обучавшаяся в пансионе. Она наигрывает нечто немецкое на убогом фортепьяно, а когда отец просит ее спеть «лучше что-нибудь наше родное, малороссийское», поначалу отнекивается: «– Да я совсем отвыкла петь по-малороссийски… У нас в пансионе все по-русски… – Вот то и скверно! – возражает Онуфрий Лукич. – Своего кровного языка забывать не должно!.. Конечно, в обществе, а паче при москалях надо говорить по-русски, но в своей семье…» (С. 22). Чтобы ублажить отца, Феся исполняет близкую его сердцу песню «Виють витры…».
Внезапно сладостное пение прервано: мальчик-слуга извещает о приезде двух панычей, один из которых «сказал, что его фамилия Гоголь». Услышав описание его наружности – «тощий, худощавый, бледнолицый, в очках», – хозяин в смятении восклицает: «Так и есть! Он, как раз!» Слугу заставляют обуться и наспех, без особого успеха, обучают москальскому политесу, приказывая говорить с гостями только по-русски – «слышу» вместо «чую», и пр. Сам Гнида переодевается в парадный сюртук и велит домочадцам принарядиться. Взамен сытных украинских блюд на кухне в спешке готовят городские деликатесы – крем, вафли и безе. Словом, поднимается переполох.
– Да кто ж это к вам приехал, друг мой? – спросила испуганная Степанида Петровна, – уж не ревизор ли?
– Эге! рассказывай: ревизор! тут такой приехал, что погрозней еще твоего ревизора… Ревизор, когда есть за что, погоняет тебя в суде, при знакомых людях, да тем и кончится! А этот опишет тебя с головы до ног <…> Вот он какая птица!
– Э!! А какая ж он птица? – спросила Степанида Петровна, внимательно выслушав рассказ мужа.
– Сатирический писатель.